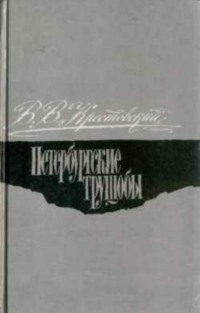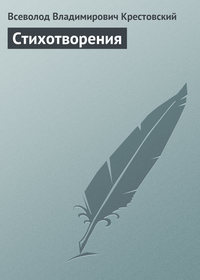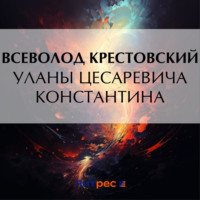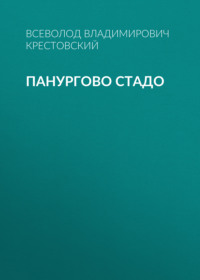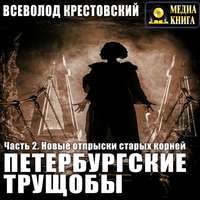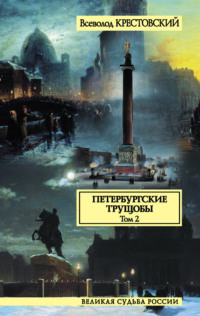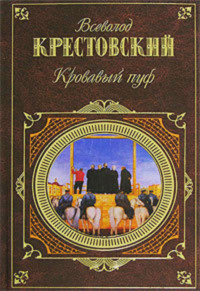полная версия
полная версияОчерки кавалерийской жизни
И вот, таким образом, стали заводиться кое-когда у Юзио и «свои собственные» карманные деньжишки. Тогда Юзио отправляется обыкновенно в кондитерскую Аданки, играет с мелкими чиновниками на бильярде, а кого можно, то даже и угощает перед буфетом коньяком, что умеет проделывать иногда и не без покровительственного тона, и тут же на виду у всех – непременно на виду – расплачивается наличными «своими собственными» деньгами – дескать, не думайте, что у меня нет их!
– Мой друг, князь Черемисов… – обыкновенно начинает он тут по какому-нибудь поводу рассказывать чиновникам. – Ah, a propos! Вы знаете, что сделал недавно мой друг Черемисов?.. Charmant garcon! Ah, comme je l'aime!.. Но только я ему говорю:
«Послушай, милый князь, ты ж понимаешь, ты знаешь, как мы все тебя любим и уважаем…» – и т.д. в подобном же роде.
Чиновники пьют за счет Юзио коньяк, слушают его рассказы и, видя его постоянно «с князем», убеждаются, что он действительно друг его, а это уже, так сказать, «позирует» нашего Юзио, дает ему кое-где некоторый вес, даже некоторый блеск на него налагает.
– Вы знаете пана Юзефа такого-то? – спрашивает, например, кто-либо.
– Нет, не знаю. Кто это – пан Юзеф?
– А это друг князя Черемисова.
– А! Вот как!
– Да-а! Как же, они друзья неразлучные.
С течением времени у Юзио перед посторонними, то есть вне офицерского кружка, явилось и в тоне, и в выражении лица, и в самой походке даже нечто самостоятельное, исполненное некоего достоинства и значительности. Вот что значит создать себе положение «княжеского друга»! С этим вместе изменился и взгляд весьма многих «родаков» и «компатриотов» на Юзио – он перестал уже быть отверженцем, и перед ним снова растворились двери некоторых польских домов, еще недавно закрытые для него столь презрительно. Казалось бы, теперь, когда он окончательно сошелся с москалями, даже живет на счет одного из них, добрые патриоты должны бы были еще более чураться бедного Юзио, но… Повстан-ские времена отошли в вечность, страсти поутихли, а положение «княжеского друга» и возможность познакомиться через этого друга с самим «князем», богатым женихом, хоть и москалем, но зато человеком «со связями в столице», заставили некоторых маменек и молодых вдовушек сделаться в отношении Юзио не только любезными, но даже искательными.
И действительно, Юзио познакомил с некоторыми дамами своего «друга». Бывало, Черемисов влюбится слегка в какую-нибудь пани или паненку, а Юзио страдает – страдает вдвойне: и за него, и за себя, потому что и со своей стороны, как друг, считает своим долгом тоже влюбиться, и притом в ту же самую особу, но, конечно, всякое первенство, всякое преимущество в чувствах великодушно уступает милому князю, «для того, что он же ж такой милый», – а сам ограничивается только вздохами, чувствительными романсами, платоническими восторгами и разговорами с другом «о ней», о том, сколь она прелестна, интересна, как выразительно посмотрела на Черемисова тогда-то, как улыбнулась, с каким оттенком сказала то-то и прочее. Это была у него болтовня неистощимая, ибо Юзио никак не может обойтись без того, чтобы не «конфидентовать» – «така юж натура, муй пане!». Но кроме тем для болтовни периоды черемисовскои влюбленности всегда доставляли ему новый источник забот и хлопот, сопряженных с беготнёю по лавкам и ездою на извозчиках: надо идти с князем «до костелу», чтобы встретить там «ее», надо заказать букет и отвезти его к «ней» от имени князя, надо выписать из Варшавы ее любимые «цукерки», и «пястечки», и «конфетуры», устроить веселую «ма-ювку», на которой «она» была бы царицею, передать по секрету иногда записку, иногда какое-нибудь многозначительное слово по поручению друга… Но это еще не все. Если Черемисов отправляется на таинственное свидание с "нею*, то и Юзио идет вместе с ним, но, конечно, так, чтобы «она» этого не знала, и пока у князя длится интересное тет-а-тет, Юзио скромно стоит где-нибудь в сторонке, зорко и чутко карауля, чтобы никто и ничто не помешало спокойствию его друга, – стоит и мучается, и терзается, и вздыхает, но утешается сознанием, что если, мол, не я, то он – он, друг мой, по крайней мере счастлив!
Иногда случалось, что какая-нибудь особа вдруг, ии с того, ни с сего, разонравится Черемисову, и он круто оборвет Юзио, продолжающего болтать и бескорыстно восхищаться ею.
– Убирайся ты к черту! – скажет ему, бывало. – И чего это ты, в самом деле, пристал ко мне с нею?! Нет у тебя разве другого разговора?
Такое неожиданное замечание было для Юзио все равно что «цук» для занесшейся лошади.
– Mais, mon cher… ведь ты ж… то есть она ж, ведь… она же нам так нравится? – озадаченно, заикаясь, начинает он оправдываться.
– Нравится? Никогда она мне не нравилась. Все ты врешь, сочиняешь!
– От-то штука!.. Але ж прошен! Я ж любопытный знать, как же ж то так?
– Да так, что замолчи, и баста!
Юзио в первую минуту очень озадачен: как же это так, в самом деле? Но если так, то, казалось бы, теперь он смело может убрать в сторону свое великодушное самопожертвование ради друга, дать полную волю своему собственному чувству к этой особе и ухаживать за нею уже ради самого себя, эгоистически; но нет, ничуть не бывало!
Чувство Юзио в таких случаях как бы считает своим долгом тоже вдруг испариться.
– Parbleu! – пожимая плечами, говорит он спустя сутки, другие. – Говорят, чьто этая пани Пшепендовьска хорошенькая… Mais, au fond, ничего в ней нету такого особенного… И я даже не понимаю, чьто такого могло нам в ней нравиться…
– То есть, не нам, а тебе, скажи лучше, – внушительно поправляет его приятель.
– Ва! Voila la chose! – И Юзио при этом удивленно выпучивает глаза.– Н-ну! Finisse, mon cher! QuelJe blague! – отмахивается он. – И никогда же она мне, а ни Боже мой, никогда даже не нравилась! То ли дело пани Пшездецька!.. А ведь ты, cher prince, ты недаром проходил вчера с нею целый час по аллее!.. Я ж таки кое-что подметил… Ну, признайся! Будь другом! Ведь так?.. А?.. Досконалем!.. Але и что ж то за прелестна женщина!.. Бог мой!
И Юзио, как ни в чем не бывало, совершенно искренно начинает заряжать себя новыми чувствами к пани Пшездецькой – и опять идет у него рядом с болтовней и восторгами хлопотливое шныряние на извозчиках, беготня по костелам, по бульвару, за букетами, конфетурами и т.п.
– Cher prince, прикажи, пожалуйста, этому грубияну Нестору (я из ним даже и говорить не хочу!), чтобы он заплатил за четыре концы извозчику, – для тебя лее все старался! Устал как собака какой!.. А за букет заплатим потом… я пока на кредит приказал… Mais quelle femme! Dieu, quelle femme!.. И не будь ты мне другом, – н-ну, князь! – я бы, кажется, а-никому н-никогда не уступил бы такого честю!.. Тай Боже ж мой! Я бы и до дуэлю пойшел! До Сибиру!
Офицерство наше вообще относилось к Юзио не только снисходительно, но даже весьма любовно и прозвало его доном Сезаром де Базаном; зато денщики сильно его недолюбливали, и все это с легкой руки Нестора, который восчувствовал к нему с первого раза непримиримую ненависть и презрение за то, что «уж больно он барскому добру учетчик непрошеный, и ни то он тебе на барском, ни то на лакейском положении, так что даже совсем непонятный человек, – так себе, какое-то полублагородие выходит»! Вообще, денщики, где можно, не упускали случая сделать ему какую-нибудь грубость, выказать свое презрение, и хотя им нередко порядком-таки доставалось за это от «господ», но – увы! – никакие «разносы в пух и прах» не могли изменить денщичьих чувств относительно нашего дона Сезара де Базана.
Между офицерами был один только человек, питавший к Юзио неодолимую антипатию и потому не упускавший случая зло подшутить над ним, поставить его в какое-нибудь смешное или критическое положение, поддразнить его, пустить на его счет какую-нибудь шпильку, выдумку, больно задеть его самолюбие, и – замечательное дело – этот упорный враг, к удивлению нашему, был сам поляк, земляк, «компатриот» Юзио, от которого этот последний, казалось бы, мог ожидать наиболее сочувствия и поддержки. Но Юзио выносил все его выходки и приставания с редким благодушием и смиренством, хотя при этом и принимал каждый раз «благородный» вид холодного, сдержанного и молчаливого презрения – дескать, я все-таки слон в сравнении с этою моськой.
Так прошло несколько лет, в течение которых он сжился не только с Черемисовым, но и с полком настолько, что уже стали считать его какою-то неотъемлемою полковою принадлежностью. Бывало, с 1-м эскадроном, в котором состоял Черемисов, он и на «траву», и на зимние квартиры едет в «хвосте» на офицерской повозке, с легавыми щенками; в ней же разъезжает за разными покупками по поручению офицеров и в ней же возвращается с эскадроном в штаб на кампамент. При этом на голове его всегда красуется форменпая фуражка с кокардой, и Юзио, видимо, очень доволен, когда встречные крестьяне и евреи снимают перед ним шапку, принимая его тоже за офицера. Он с важностью и благоволивым достоинством подымает руку к козырьку и слегка кивает в ответ на подобные приветствия.
Если Черемисову случалось уезжать в отпуск, Юзио на это время обыкновенно пристраивался на житье к кому-нибудь из офицеров, и все уже давно привыкли смотреть на это как на самое правильное, законное дело, потому что куда ж ему иначе деваться? Вышел впоследствии Черемисов в оставку, уехал к себе в казанское имение, но Юзио неизменно, как и прежде, сохранился при полку, переходя время от времени от офицера к офицеру, как бы по наследству. И офицерство им не тяготилось: поживет несколько недель, а то и месяцев у одного, перейдет к другому, к третьему и т.д., пока не совершит известный цикл по офицерским обиталищам. Им не тяготились, потому что лишний человек не объест, а где сыты двое, там хватит и на третьего. Юзио был-таки сибарит по своей природе: любил сладко поесть, мягко и много поспать, лениво поваляться по диванам с сигарой в зубах, весело выпить, но не огорчался, если и подолгу не доводилось ему вкушать от всех сих благ; только в рассказе или при воспоминании о них на его лице появлялась блаженная улыбка, и губы начинали вкусно причмокивать, в чем, собственно, и обнаруживались его сибаритские наклонности и симпатии. Но вообще, при слабости к сибаритству, он мог и умел, когда надо, быть очень покладистым, неприхотливым и невзыскательным, спать где и на чем придется, есть что случится – от трюфелей и бекасов до «железной» солдатской каши на постном масле, – и ничего себе – благодарение Богу, только здоровеет наш дон Сезар и постоянно сохраняет беззаботное, веселое настроение духа.
Бывало, посторонние люди неоднократно, при случае, спрашивают у офицеров с некоторым недоумением:
– Скажите, пожалуйста, что такое этот ваш Юзио?
– Добрый малый, – отвечают им, – услужливый, иногда очень приятный в обществе.
– Но при чем он, собственно?
– Как при чем? При полку, разумеется.
– То есть что же он при полку изображает собою?
– Так себе, ничего… Юзио, да и только, иначе дон Сезар де Базан – и все тут; иного ничего не изображает.
– Но… что он делает? Род его жизни, например, занятий там, что ли?
– Он? Как вам сказать… Он, собственно, проживает при Ямбургском уланском полку. И больше ничего.
– Ив этом проживании, стало быть, заключается все его общественное положение?
– Исключительно в этом.
– Ну а если война? Или если просто двинуть ваш полк отсюда куда-нибудь на новую стоянку? Тогда же с ним как?
– А очень просто. Тогда, конечно, и Юзио двинется вместе с нами. Это ведь для него легче легкого: весь его багаж таков, что встал и готов! Куда же ему иначе деваться!
И действительно, вне полка для бедного дона Сезара де Базана нет места, нет существования на свете.
3. Башибузук
Когда, как и по какому случаю он впервые появился в полку –этого никто не знает и не помнит.
Юзио – тот, по крайней мере, как пристал к нам, так уже у нас одних и держится безотлучно; если иногда он и совершает перекочевку, то все в полку же – из эскадрона в эскадрон, от офицера к офицеру. Он, так сказать, животное домашнее, оседлое (bestia domestica). Башибузук – совсем наоборот, появляется исключительно лишь налетами, внезапно, как снег на голову, когда его и не чают; мелькнет, как метеор, повертится там-сям, пошумит, подебошит (если возможно), непременно займет у того другого малую толику деньжишек и исчезнет столь же неожиданно, как и появился, – и опять о нем на несколько месяцев ни слуху ни духу.
Помню я мою первую с ним встречу.
Я еще недавно был произведен в офицеры и, побывав в Петербурге, возвращался в полк из отпуска. На одной из железнодорожных станций, чуть ли не во Пскове, где пассажирский поезд останавливается поздним вечером почти на час времени, сел я за общий стол и спросил себе поужинать. Против меня уселся какой-то старик, лет около шестидесяти, в мохнатой кавказской бурке и в черной черкеске, с кинжалом за поясом. На седой, плотно остриженной голове его небрежно и лихо была накинута заломленная как-то разом и набекрень, и на затылок потертая офицерская фуражка с малиновым околышем, про которую можно сказать, что, судя по всем видимостям, она таки повидала виды на своем веку. Но и про физиономию, украшенную этой фуражкой, можно бы было с уверенностью подумать то же самое. Физиономия эта выражалась в следующих характерных штрихах и бликах: серые, полинялые глаза с самоуверенным, почти наглым, но в сущности безалаберно-добродушным выражением; густые, как щетки, шершавые брови – совершенно бутафорские, вроде тех, что наклеивают себе в иных характерных ролях актеры; сивые длинные усы с подусниками и нос, похожий на кактус, – нос замечательный: большой и припухлый, с лоском, словно бы упитанный или наливной изнутри чем-то сочным, сизо-багрового цвета, с прыщами и жилками, – нос, не оставляющий никакого сомнения в сильном и хронически упорном пристрастии его обладателя к крепким напиткам. «А ведь это Ноздрев в старости! – невольно подумалось мне при взгляде на фигуру моего почтенного визави. – Совершенный Ноздрев, только одетый вместо архалука в черкеску!»
Спросил он себе тоже чего-то закусить, разумеется, с водкой – и пристально уставился на меня вопрошающим взглядом.
– Вы, кажется, Ямбургского уланского полка? – обратился он ко мне с тою «приятною» катаральною хрипотою в голосе, которую иные почему-то называют «майорскою» хрипотою.
Я отвечал утвердительно.
– Как же это вас не знаю?.. Верно, произведены еще недавно?
– Да, недавно.
– То-то я и гляжу, что лицо незнакомое… А то я ведь весь ваш полк – слава те Господи! – наперечет, как свои пять пальцев, знаю. Как же! Все друзья-приятели!.. Что Джаксон? Здравствует? Кардаш, Бушуев, Друри, Антон Васильевич?..
И он почти залпом выпалил мне около десятка имен моих однополчан-сослуживцев.
– Все, – говорю, – слава Богу, живы и здоровы.
– Ну и слава Богу!.. Кланяйтесь, пожалуйста, от меня всем, скажите, что скоро заверну к вам в полк – всех навещу, никого не обойду, никого невниманием не обижу, со всеми как следует выпьем и закусим и по душе потолкуем.
– А от кого именно прикажете кланяться? – спросил я.
– То есть это вы насчет имени?.. «Что в имени тебе моем!» – сказал поэт наш знаменитый. Имя, пожалуй, вы позабудете, а скажите просто, что Башибузук-де кланяется, – они уже знают. Да и вам, я чай, эта кличка моя небезызвестна, хотя бы по слухам.
– Н-нет, признаюсь, не слыхал.
– Не слыхали?! – И старик выпучил на меня удивленные глаза.
Мне показалось, что он не только озадачен, но и как будто даже несколько задет за живое таким неожиданным обстоятельством.
– Не слыхали?.. Может ли это быть?! В вашем-то полку и вдруг не слыхали о Башибузуке-то!.. Нет, да вы вспомните, вы, верно, позабыли. Ба-ши-бу-зук, говорю. Наверное, слышали!
– Да нет же, не слыхал, – возражаю я.
Старик отчасти даже огорчился.
– Ну, может быть! – сказал он со сдержанно-обиженным вздохом. – Не смею не верить… Должен верить, когда мне говорит офицер… Обязан верить. Но каковы же друзья-приятели, а?.. Каковы?!.. Значит, ни разу о Башибузуке и не вспомнили… Из глаз вон – из сердца вон… Да! «Тот любви скажи прощай, кто на три года вдаль уедет»… Да и я-то, старая скотина, тоже хорош! Других корю, а сам-то! Сам не то что носа не показал, а и полстрочки никому не черкнул за все время… Но нет, в самом деле, давненько же, значит, не наведывался я в ваш полк, если в молодом его поколении – вот, как в вас, например, – даже и предания, и самая память о Башибузуке исчезли… Впрочем, ведь я у вас – шутка ли сказать! – больше двух лет не бывал, все странствовал далече… Но и носило же меня, я вам скажу, черт знает где по святой Руси, то есть буквально «от финских хладных скал до пламенной Колхиды»… А по этому поводу и ради столь приятной встречи не выпить ли нам чего-нибудь, а? Как вы думаете?.. Выпьем!
– Да вот, я пью красное – не прикажете ли?
Мой собеседник поморщился и прищурился на бутылку.
– Красненькое? – сказал он, как-то зябко поеживаясь и потирая руки. – Что ж, пожалуй, будем пить и красненькое; хотя, знаете ли, у этих мерзавцев, станционных буфетчиков, французское вино всегда поддельное… Но я не прочь! Для компании отчего же, с удовольствием!.. Хм… А лучше бы… тово, – медлительно произнес он, как бы в раздумье, неопределенно глядя куда-то в пространство, – лучше бы… если уж хотите угостить старика, то… знаете, как в песне цыганской говорится, прикажите-ка" батенька, «чтоб согреться старичку, поднесть рюмку коньячку» – оно посущественнее будет… А потом уж и красненького можно… Вы, голубчик, извините меня, старика, что я так бесцеремонно… Это ведь только потому, что я у вас в полку свой человек, и как увижу эту самую вашу форму, так вот, верите ли, словно бы нечто родное, ажио все сердце сполыхнется… Ей-богу!
– Вы, стало быть, прежде служили в нашем полку?
– Нет-с! Вся моя служба на Кавказе прошла. – И, произнося это с оттенком некоторой гордости, старик как бы невзначай распахнул пошире бурку, очевидно, с намерением дать мне заметить висевший на его левых газырях солдатский Георгиевский крестик. – Весь век на Кавказе-с, – продолжил он, – и преимущественно в Нижегородском драгунском… Впрочем, служил и в пехоте – не по своей охоте… Но вся беда моя в том, что мой роковой предел – это чин капитана. Точно-с! И верите ли, как дойду до этого чина проклятого, так и шабаш.
– Почему же шабаш? – спросил я.
– Как «почему», говорите вы!.. Понятно почему! Потому что провалюсь!.. Провалюсь – неизбежно, фатально, словно бы мне это на роду написано!.. Помилуйте, товарищи мои давно уже в генерал-лейтенанты метят, а я только капитан в отставке! Вот и разочтите!
– Что же так?
– Не везет-с!.. «Счастье – глюк, говорит, надо клюк, говорит». Как дойду до капитанского чина, так меня сейчас по шапке – и разжалуюсь по сентенции в солдаты-с!.. И не подумайте, чтобы за что-нибудь этакое неблагородное, марающее честь мундира, вроде растрат или солдатских денег там, что ли, нет, это – Боже избави! Этакой грязи никогда!.. А все только по своей необузданности, или, вернее сказать, по роковым стечениям обстоятельств. Раз, например, не в меру строго с начальством обошелся; другой раз, будучи дежурным по караулам, приказал молоденькому караульному прапорщику под мою ответственность благородного арестанта выпустить на честное слово ради ночного свидания с дамой его сердца, а тот, каналья, возьми да удери!.. А в третий раз… ей-богу, я уж и сам не знаю, как и за что, и почему это в третий раз угодил я в солдаты!.. Думаю, просто потому, кажись, что судьба такая, – ничего не поделаешь! «Счастье – глюк, говорит, надо клюк, говорит». Выпьем!
И старик, так сказать, «вонзил» в себя сразу принесенную ему большую рюмку коньяку.
– И вот-с, – продолжал он, – дослужился я наконец, и в четвертый раз на своем веку до капитана. Не-ет, думаю, дудки! Шалишь, кума, больше не надуешь! Стар уж я стал солдатскую-то лямку в четвертый раз тянуть сначала! И как только прочел в приказе о своем производстве – сейчас же, то есть не медля ни единой минуты, подал рапорт о болезни вместе с прошением об отставке – в чистую! И чтобы подальше от какого-либо соблазна, принял себе этакое намерение никуда не выходить, ни с кем не сталкиваться и для того наглухо заточился в своей квартире… Потому – враг ведь силен! И кто ж его знает, может, вдруг нечаянно наткнешься так, что и в-четвертых угодишь под красную шапку… Тяжко мне было заточенье-то это, потому я человек общительный; но, думаю, как-никак, а уж на этот раз выдержу характер. И перехитрил-таки судьбу свою, злодейку! Нос ей наклеил – да какой! – и, могу сказать, счастлив! Потому – многого не желаю, а добрых друзей на святой Руси на век мой хватит – с меня и довольно! Ведь у меня, батенька, на Руси знакомство-то какое! В каждом крае, в каждом почти городишке паршивом найдется кое-кто из старых приятелей, из сослуживцев, однобивачников, односумов – и Бог ты мой!.. Да и вся кавказская знать меня знает; к самому князю Александру Иванычу, к фельдмаршалу, вхож, иногда в Скерневицы навертываюсь – и ничего себе, не брезгает старым солдатом: к собственному столу пригласит и накормит, и напоит, да еще с некоторой субсидией отпустит. «Спасибо, – говорит, – старый товарищ, что меня, старика, не забываешь!» А я ему-то стишком: «Пусть прежде Бог меня забудет, когда решусь тебя забыть!» Правду говорит пословица: «Не имей сто рублей – имей сто друзей», а у меня и точно: «не красна мошна рублями, да красна душа друзьями». Все друзья, везде друзья – и на Кавказе, и в Белокаменной, и в Питере, и в Вильне, и в Варшаве… А полков, полков-то одних сколько, где меня и знают, и принимают, и рады-радешеньки, когда приду; пожить-погостить оставляют.. И ничего себе, кое-как живем, хлеб жуем, Господа славословим… Я теперь – точно как у нас в песне в одной кавказской поется:
Мне Царь белый – отец,А Россия – мне мать,И в родстве, наконец,Вся российская рать!– Где же, собственно, вы теперь обитаете? – спросил я.
– Мм… то есть как вам сказать на это?.. Везде и нигде! Потому, видите ли, как вышел я в отставку, так с тех пор, собственно говоря, постоянного приюта или, так сказать, пьет-а-тера нигде не имею, а странствую себе по всей Руси широкой – где на чугунке, где на обывательских либо на почтовых при случае, а где и на своих двоих, пешком и мешком, пока ноги ходят, – больше все по полкам разным… Ну, иногда, впрочем, как уж докладывал вам, и к милостивцам, к прежним односумам, ныне уже звездоносцам, завернешь – благо не брезгают, да и помощь иногда окажут. И ничего себе, живу, не ропщу на Создателя. «Можно жить, не тужить и царя благодарить!..» Могу сказать, даже счастлив и доволен, потому что сердце чисто, дух мой ясен, ум и крепок, и покорен! Такова то, господин корнет, моя философия, почерпнутая мною, могу сказать, долгим опытом из моря житейского.
– А теперь куда вы направляетесь?
– Теперь-то?.. Да как вам сказать?.. В точности пока еще и сам не знаю – может быть, в Вильну, может, в Варшаву, а может, и к вам заверну, смотря по тому, как куда шатнет… Взяли мне питерские друзья билет пока до Вильны; но, очень может быть, подумаю еще и высажусь в Динабурге или s Режице – там у меня тоже старые приятели есть, а в Динабурге к тому же и полк знакомый квартирует… Так что, куда, собственно, еду я – это еще вопрос, покрытый и для меня самого мраком неизвестности,.. Вообще говоря, батенька мой,
Я много езжу по Руси,От Керчи до Валдая,И пью притом не мало сивалдая.Так-то-с! Не обессудьте старика на такой моей солдатской откровенности!
Вскоре у выходной двери пронзительно зазвенел условный ко-юкольчик и полусонный голос дежурного сторожа выкрикнул монотонным речитативом:
– Динабург, Вильна, Варшава – первый звонок!
Я поспешил расплатиться и простился со своим случайным знакомым.
– Так не забудьте же в полку-то поклониться! – кричал он мне вдогонку уже на платформе. – Так и скажите всем: Башибузук, мол, кланяется, вскоре набег на вас учинит. Прощайте!
* * *Прошло несколько месяцев. Я успел совсем позабыть про мою случайную встречу, как вдруг однажды, зимним вечером, раздается в прихожей звонок, вслед за которым чей-то незнакомый, но авторитетный голос вопрошает: «Дома?» – и затем, не ожидая денщичьего ответа, в комнату вваливается некто, в кавказской бурке, покрытой мокрым снегом, и в папахе, низко нависшей над бровями.
Смотрю и не могу признать, кто такой мог бы это быть.
– Здравствуй, дружище! – радостно восклицает между тем на ходу незнакомый гость. – Аль не узнал старика?.. Помнишь, на станции?.. Башибузука-то? Он самый и есть перед тобой, как лист перед травой! Здорово!
Тут я, конечно, узнал его, но только думаю себе: когда же это мы с ним успели сойтись на «ты»? Он, однако, не дал мне раздумывать, а приступом, с налету, заключил меня в свои объятия и трижды звонко облобызал мои щеки, измазав их мокрыми усами.