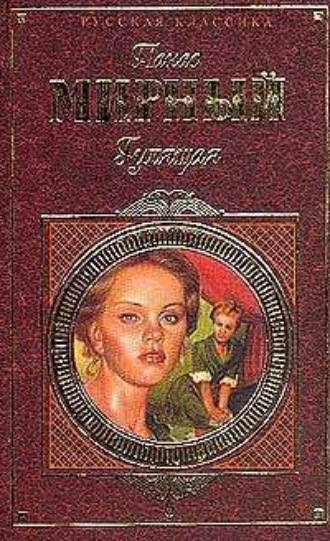 полная версия
полная версияГулящая
– Человек! – крикнул Проценко. Официант со всех ног бросился на зов.
– Выбери лучшую и уютную беседку… Чаю, закуску… живо! – командовал Проценко.
Официант стрелой метнулся выполнять приказание.
– Проворный! – сказал Рубец. – У нас таких нет.
– Он только бегает скоро. А пока принесет, мы еще насидимся, – сказал Кныш.
Пока Рубец и Кныш вели беседу об официантах, Проценко стоял, повернувшись лицом к веранде, и свысока оглядывал прохожих.
– Мосье Проценко! Скажите вашей супруге, что я на нее сердита, – сказала ему молодая женщина, за которой увивалась большая группа офицеров, погромыхивая саблями и шпорами.
– За что это?
– Как же! Тянула, тянула ее в сад, а она ни за что не хотела пойти, – кокетливо глядя на него, сказала незнакомка, проходя мимо.
– Так вы женаты? – спросил Рубец.
– Уже полгода, как женился.
– А я и не знал. Поздравляю. Почему же вы один? Разве жена нездорова?
– Да нет… Она у меня домоседка.
Рубец хотел что-то сказать, но тут как раз прибежал официант.
– Готово-с! – сказал он, остановившись перед Проценко, и рывком бросил салфетку на плечо.
– Где? – спросил Проценко.
– Пожалуйте-с! – сказал он, побежав вперед.
– Куда же ты? – крикнул Проценко.
– Там-с! – сказал официант, указывая рукой на купу акаций, черневших вдали.
– На кой черт такую глушь выбрал? – сердито сказал Проценко.
– Здесь все заняты-с!
Проценко остановился.
– Пойдем. Там будет меньше любопытных глаз, – сказал Кныш, и все двинулись вслед за официантом.
В конце широкой аллеи, под сенью акации, чернела небольшая беседка. Дойдя туда, официант сказал:
– Здесь!
В беседке стоял стол, накрытый белой скатертью, на нем горели две свечи под стеклянными колпаками, вокруг стола стояли табуретки.
– Как тут уютно, – сказал Рубец.
– Так ты еще ничего не приготовил? – спросил Проценко.
– Что прикажете-с?
– Черт бы тебя побрал! Хоть бы чаю принес.
– Сколько прикажете-с?
– По старому обычаю… – вмешался Рубец.
– Пью раньше водочку, – закончил вместо него Кныш.
– Как хотите. Что же мы закажем? – спросил Проценко.
Начали совещаться. Кныш захотел битки в сметане, Проценко – перепелку, а Рубец сказал: пусть дают что угодно, только поскорее.
– Графин водки! Бутылку красного! Битков, перепелов, а третье… что есть у вас лучшее?
Официант, точно трещотка, начал сыпать названиями блюд.
– Дай мне котлеты, да по моим зубам, – сказал Рубец.
– Отбивных, пожарских? – снова затараторил официант. Рубец, не зная, какие ему заказать, растерянно озирался.
– Пожарских! – крикнул Проценко.
– Хорошо-с!
– Постой! Принеси пока графин водки, селедку, а если есть хороший балык, икра, тоже захвати.
В ожидании закуски старые приятели завязали обычную в таких случаях беседу. Проценко расспрашивал Рубца о городе, Пистине Ивановне, детях. Рубец отвечал не спеша, пересыпая речь пословицами и поговорками, как все уездные жители. Его речь затянулась бы надолго, если бы в это время официант не принес водку и закуску. Когда же засверкал на столе графин и приятно зазвенели рюмки, беседа сразу оборвалась; руки сами потянулись к рюмкам, глаза жадно поглядывали на ломтики жирного балыка, черную икру, отливающую серебром селедку.
– Будем! – сказал Проценко, поднимая рюмку.
Приятели чокнулись и выпили.
Закусив, приложились ко второй.
– Вы, кажется, это зелье не употребляли? – спросил Рубец, глядя, как Проценко опрокидывает одну рюмку за другой.
– Не употреблял. Молодой еще был.
– Вы тогда больше по женской части… – смеясь, вставил Кныш.
– Случалось, не робел. А теперь жена мешает, – сказал Проценко.
– А вас еще и сейчас вспоминают барышни и молодые барыньки, – сказал Рубец.
– Счастливая пора, – сказал Проценко. – Давайте выпьем за них!
Только наполнили рюмки, как официант принес жарко́е. Своим приятным запахом оно вызвало еще больший аппетит.
– А вино? – спросил Проценко.
– Сейчас, – сказал официант.
– Потом подашь чай. Слышишь? И бутылку рому.
– Слушаюсь.
– Так выпьем за здоровье тех, кого мы любили и кто нас любил, – сказал Проценко, поднимая рюмку.
Они снова чокнулись и выпили. После четвертой у всех загорелись глаза.
– Чего в молодые годы не бывает? – задумчиво сказал Рубец. – Помню, как я в свою крепостную влюбился, да так, что жениться хотел, а покойный отец задал мне хорошую взбучку, и любовь вся испарилась.
– А я? – крикнул Проценко. – Это ж у вас на глазах произошло. Помните Христю? Я ж хотел с ней гражданским браком жить. А теперь где она? Что с ней?
– Так и пропала. Когда я рассчитал ее, слышно было, что она одно время у Довбни жила. Жена Довбни такая же шлюха, как и Христя. Довбня начал к ней приставать, а Марина заметила это и выгнала подругу. Говорят, что потом она и у покойного капитана жила. Тот, как военный, любил девушек. А потом капитан ее кому-то уступил, а там и слух о ней пропал. Не знаю, куда делась. А жаль, хорошая была работница.
– Да, она была даровитая. Очень… – подумав, сказал Проценко. – Куда даровитей этой попадьи. Как ее? Наталья… Наталья… взбалмошное существо!
– Царство ей небесное! – сказал Рубец. – Отравилась. А поп постригся в монахи. Оба они чудные были.
– Взбалмошное существо! – повторил Проценко.
– В городе тогда говорили, что из-за вас, – сказал Рубец.
– Может быть. Чем же я виноват? Вольно человеку дурь в голову вбить. Вечной любви желала… Глупая! Как будто существует вечная любовь!
Кныш и Рубец захохотали, а Проценко, почесав затылок, сказал:
– Уж мне эти бабы!
Официант принес чай, вино и ром.
– Вот это кстати! – сказал Проценко и придвинул к себе стакан.
Принялись за чай. Кныш и Рубец налили ром, а Проценко ждал, пока чай остынет. Он часто вставал, выходил из беседки. Видно, его что-то встревожило. Лицо его побагровело, глаза потускнели, он часто снимал пенсне, протирал его платком и снова надевал.
– Григорий Петрович! Здравствуйте! – приветствовал его кто-то громко, когда он снова вышел из беседки. – Вы один?
– Нет, с компанией. Ах, кстати. Хотите земляка увидеть?
– А как же! Земляка – охотно. Где он?
Немного погодя на пороге беседки появился Проценко в сопровождении плотного здоровяка с лоснящимся от жира румяным лицом и черными усами.
Рубец сразу узнал Колесника. Тот же голос – звонкий и гулкий, и весь он такой же бодрый и бравый, как прежде. Только одет иначе. Он уже не был в долгополом кафтане и шароварах, заправленных в сапоги, а в сюртуке модного покроя и светлых брюках навыпуск, элегантных башмаках и рубашке с воротничком; на груди у него болталась массивная золотая цепочка от часов, а на пальцах сверкали бриллиантовые перстни.
– Антон Петрович! Сколько лет, сколько зим! – крикнул Колесник и полез целоваться.
Потом он сказал:
– Вот где вы собрались, земляки. Ну что ж, и я с вами выпью чарочку рома.
– Константин Петрович, а может, чайку? – спросил Проценко.
– Нет. Чай сушит. Это не по нашей части. В земстве говорят, что я мужик. Так уж мужиком останусь. Будем здоровы. – И он мигом опрокинул рюмку.
– Ну, а вы как живете? – обратился он затем к Рубцу. – Слышал, вы службу переменили, в земство перешли. Это – по-моему. Хорошо. Ей-Богу, хорошо. Служба только хлопотливая. На месте посидеть не дадут, гоняют как зайца. То мост поезжай строить, то плотину. Паны сидят и пишут, а ты как угорелый мотайся. И всюду поспевай. Только и отдохнешь перед собранием. А так – из повозки не вылезаешь.
– Однако вам, Константин Петрович, это впрок идет, вот как вы раздобрели, – улыбнувшись, сказал Кныш.
– Хорошо, что я такой удался. А был бы слабый – что тогда? Дождь, грязь, ненастье, а ты мчишься. Дело не ждет. Ох, и спросить забыл, – обратился он к Проценко. – Видели новое диво?
– Какое? – спросил тот, прихлебывая чай.
– Арфисток! – крикнул Колесник. – Ну и Штемберг! Вот это арфистки! Платья у них коротенькие, ножки в голубых чулочках. А личики – розы и лилии. Сроду таких не видал. А лучше всех одна Наташка. Как в сказках говорят: на лбу – месяц, на затылке – звезды.
– Ну, пошел расписывать! – ввернул Кныш.
– Это по его части, – вставил Проценко.
– Не верите? Вот увидите сами. Скоро они начнут петь.
Кныш и Проценко начали посмеиваться над склонностью Колесника к женскому полу.
– Было когда-то! А теперь никчемным стал, – сказал Колесник, наливая себе в рюмку ром.
В саду начался шум, все устремились к веранде. Послышались выкрики:
– Сейчас будут петь! Сейчас!
– Пойдем! Пойдем! – засуетился Колесник.
– Ну, пусть идут молодые, – сказал Рубец. – А нам, старикам…
– Разве у старого кровь холодная? Пойдем!
Не допив вина, они бросились к веранде. Колесник шел впереди и тащил за руку Рубца, который никак не поспевал за своим проворным и вертлявым земляком. Проценко и Кныш шагали в стороне. Около закрытой веранды была такая давка и теснота, что протиснуться нельзя было. В двери входили не поодиночке, а точно тараном пробивались плотно сомкнутыми группами. Протиснулись и наши земляки и сразу бросились занимать хорошие места. Как раз против дверей находился высокий помост, на котором тесным рядом стояли арфистки, озираясь по сторонам; порой улыбка мелькала на лице у той или другой. Со всех концов раздавались восторженные возгласы.
– Вот Наташка. Средняя. Сюда глядит! – крикнул Колесник.
Посредине стояла невысокая круглолицая девушка, одетая в черное бархатное платье, особенно оттенявшее нежную белизну ее лица и шеи, – она выделялась среди своих подруг, как лилия в букете.
– У-у! – загудел Проценко. – Вот скульптурность форм, вот мягкость и теплота очертаний!
– Ага! Не я вам говорил? – торжествовал Колесник. – Козырь-девка!
– Постойте, постойте. Она мне напоминает кого-то, – сказал Проценко. – Дай Бог памяти. Где же я видел похожую на нее?
– Нигде в мире. Разве что во сне, – сказал Колесник.
– И я где-то видел такую, но черт его знает, не припомню… – сказал Рубец и пристально взглянул на девушку. Та спокойно смотрела на публику своими жгучими глазами. Вот она перевела взор на Проценко. Удивление, смешанное с испугом, отразилось в ее бездонных зрачках, она еле заметно вздрогнула и сразу начала смотреть в другую сторону.
– Ей-Богу, я где-то видел ее! – сказал Проценко.
– Не может быть, – уверял его Колесник.
Народу набилось столько, что нельзя было повернуться, жара – трудно дышать.
– Знаете что? Пойдемте к той стене, на скамью станем, там не так жарко будет, и все видно, – предложил Колесник. Он двинулся вперед, все последовали за ним.
Когда они пробирались на новое место, заиграли на рояле – значит, скоро начнут петь. Все мгновенно замерли, слышно стало, как жужжит муха. Среди этой тишины зазвучали аккорды рояля. И вот наконец грянула походная песня:
Мы дружно на врагов,На бой, друзья, спешим…Звонким голосам девушек вторили сиплые голоса стоявших за роялем мрачных верзил с испитыми лицами. Это бесталанные или пропившие свои голоса и выгнанные со сцены актеры развлекали пьяное купечество своим завываньем. Когда спели походную, слушатели наградили исполнительниц бурными аплодисментами. Певицы улыбались, кланялись, перешептывались, потом опустились на маленькие табуретки, стоявшие позади их. Только Наташа стояла по-прежнему. Аккомпаниатор взял несколько аккордов на рояле и умолк. Наташа быстрым взглядом обвела море голов, колыхавшееся перед ней, и запела «Прачку».
Звонким и сочным голосом она пела про тринадцатилетнюю прачку, как позвали ее к сударину-барину стирать сорочку, – это была одна из тех песен, которыми кафешантанные певички услаждали слух барам, пьяным купцам и купеческим сынкам. Свои песни Наташа дополняла выразительными жестами и взглядами. Слушатели млели. Казалось, они забыли обо всем на свете, и владела ими одна похоть, о которой рассказывала певица. Когда она начала жестами показывать, как она стирала сорочку, поднялся бешеный рев. К нему присоединились рукоплескания, топот сотен ног, – казалось, что от этого неистового грохота треснут стены и обвалится потолок. Певица несколько раз поклонилась во все стороны и опустилась на табуретку.
Барышни скромно потупили глаза, а их кавалеры, плотоядно улыбаясь, говорили: «Настоящий бесенок!» – и целые охапки цветов полетели к ногам певицы. Некоторые, протиснувшись к сцене, сами протягивали ей цветы. Она брала их, церемонно кланяясь. «Шампанского!» – послышался громкий возглас. Официант подал на подносе вино одному панычу; тот взял его и со своей компанией направился к певице, и там начали выпивать за ее здоровье. Она и сама отхлебнула из одного бокала и со всеми приветливо чокалась.
А что же наши земляки? Кныш смеялся и слегка подталкивал в бок Рубца, который, краснея, отмахивался от него обеими руками.
Проценко пристально следил за певицей, не отрывая от нее горящих глаз, она притягивала его словно магнит, а Колесник вертелся как ошпаренный, хлопая себя руками по животу, и говорил:
– Ох не выдержу! Ей-Богу, не выдержу!
Он так и не выдержал. Дождавшись, когда народ разойдется, он соскочил на землю и пробрался к сцене.
– Наташа! – окликнул он певицу.
– Что, папаша? – лукаво улыбаясь, спросила та.
– Можно вас просить поужинать со мною?
– С удовольствием, – ответила Наташа, протягивая ему пухлую белую руку. Все только глаза вытаращили от зависти, глядя, как Колесник повел через весь зал Наташу к отдельным кабинетам, находившимся сбоку.
– Человек, карточку! – крикнул Колесник, торжествующим взглядом окинув публику. Затем он вместе с Наташей скрылся за толстой портьерой.
По залу прошел громкий говор. Знай наших! Откуда взялся сизый голубь и оставил на бобах воробьев!
– Вот и полюбуйся. Старый, а меткий!
– Уж этот Колесник! Куда ни сунься, а наш пострел везде поспел.
– Еще бы! Куда девать земские деньги, что сами в его карман плывут?
– Вот почему разваливаются наши мосты и гати.
– Пойдем отсюда. Тут дышать нечем, – сказал нахмурившийся Проценко и направился к беседке.
Кныш и Рубец последовали за ним, расхваливая Колесника за его смелость и удачливость.
Проценко молча пил чай, все время подливая в него красное вино. Когда они наконец вышли, Рубец и Кныш были багровыми, как спелые арбузы, а Проценко сильно побледнел. Ноги у него заплетались.
– А вот и Колесник! – сказал Кныш, заглянув в раскрытое окно отдельного кабинета.
Колесник и Наташа сидели на плюшевом диванчике около небольшого столика, на котором было наставлено много всякой снеди и бутылок. Обняв Наташу, Колесник прислонился головой к ее плечу и, казалось, дремал, а она его хлопала по щеке.
Проценко первый приблизился к окну.
– Здравствуйте, мамзель! – сказал он.
– Здравствуйте, мосье! – ответила Наташа, пристально взглянув на него.
– Мы, кажется, знакомы. Я где-то видел вас.
– Спросите у Пистины Ивановны! Она все расскажет! – отрезала Наташа и, быстро поднявшись, опустила штору.
Проценко, словно пораженный громом, долго не мог прийти в себя. Он готов был броситься в окно и разбить голову этой шлюхе. Но Кныш, заметив его состояние, поспешно оттащил Проценко от окна.
– Дрянь… и смеет так отвечать! – крикнул Проценко.
А из-за шторы донесся звонкий голос:
– Папаша! Папаша, поедем к тебе.
Вскоре после этого все увидели, как пьяный Колесник, взяв под руку Наташу, повел ее к выходу, кликнул извозчика, и они уехали.
– Кого это она назвала? – допытывался Рубец у Проценко, который ходил по саду точно в воду опущенный. – Мне послышалось – будто имя моей жены.
– А так, сдуру сболтнула первое, что ей взбрело в голову, – сказал Кныш. – Разве эти шлюхи о чем-нибудь думают?
Проценко не проронил ни слова. Вскоре он позвал официанта, расплатился с ним и ушел домой. Идя по затихшим улицам, он невольно вновь задумался над словами арфистки. «О какой она Пистине Ивановне говорила?» Кроме жены Рубца, у него не было больше знакомых женщин с таким именем. Он действительно когда-то заигрывал с женой Рубца, но откуда ей это известно. Колесник успел рассказать?
И, дойдя до дому, он с такой силой дернул звонок, что по улице покатилось эхо.
ГЛАВА ВТОРАЯ
– Номер! – раздался окрик Колесника в вестибюле лучшей гостиницы, куда он вошел вместе с Наташей. Ее лицо было закрыто густой черной вуалью.
– Семейный?
– Конечно. Видишь – я не один.
– Пять с полтиной.
– Веди! А не запрашиваешь?
– Да я так. Кому как угодно. Может, дорогой будет, есть и подешевле, – оправдывался лакей.
– Веди! – проговорил Колесник.
Лакей повел их по тускло освещенному коридору. Он побежал вперед, а Колесник неторопливо следовал за ним, ведя под руку Наташу и громко скрипя сапогами.
Дойдя до одной двери, лакей открыл ее ключом и зажег свет.
– Этот? – спросил Колесник.
– Самый аристократический, – сказал лакей.
Стены были оклеены голубыми обоями; на дверях – тяжелая голубая портьера, на окнах – узорчатые занавеси; мягкая мебель с голубой обивкой довершала обстановку, и весь номер производил впечатление уютного голубого гнездышка. Большое зеркало в бронзовой раме, в котором отражалась комната, словно удваивало ее. Колесник грузно опустился в кресло и начал оглядывать мебель.
– Красиво, черт побери! – сказал он.
– А спальня где? – спросила Наташа.
– Вот, – указал он на другую портьеру, тщательно прикрывшую боковую дверь.
– Посмотрим, – сказала Наташа и скрылась за портьерой.
Лакей понес за ней свечу.
– Ничего, хорошо, уютно, – вернувшись, сказала она. – Только, друг мой, еще так рано – не напиться ли нам чаю?
– Самовар! – распорядился Колесник. Лакей мигом убежал, и только слышно было, как стучат в коридоре его тяжелые башмаки.
– Это я, папаша, так, чтобы не дать лакею понять, что я не твоя жена.
– О, да ты лукавая! – сказал Колесник, погрозив ей пальцем.
Наташа начала его тормошить, да так, что он совсем запыхался.
– Хватит! Хватит! – взмолился он.
– А твоя жена жива? – спросила Наташа погодя. – Она живет в городе Н…?
Колесник с удивлением взглянул на нее.
– Кто тебе это сказал? – спросил он.
Она захлопала в ладоши и, засмеявшись, сказала:
– Ты думаешь, я твоей жены не знаю? Я все знаю. А как я отбрила сегодня Проценко!
– Так ты и Проценко знаешь?
– И Проценко, и Рубца, и Кныша. Всех вас, чертей, знаю как свои пять пальцев.
– Откуда?
Она неестественно засмеялась.
Лакей принес самовар. Пока он расставлял посуду, Наташа была сдержанной и молчаливой, а когда он ушел, снова начала хохотать. Потом заварила чай, принялась мыть и перетирать посуду. Ее розовые пальчики, как мышата, бегали и мелькали перед глазами Колесника.
– Так почему ты все это знаешь? – спросил Колесник.
Она словно не слышала его вопроса. Оттопырив губы и моя в полоскательнице стакан, она тоненьким голоском замурлыкала веселую песенку – тру-ля-ля, тру-ля-ля…
– Ты слышала?
Наташа грустно взглянула на Колесника и тяжело вздохнула. Потом вытерла стакан, прошлась по комнате и, остановившись перед Колесником, произнесла задыхающимся голосом:
– Я вина хочу. Вина!
– Так почему ты раньше не сказала?
Схватив звонок со стола, Колесник неистово зазвонил.
Прибежал лакей.
– Вина! – крикнул Колесник.
– Красного, – шепотом прибавила она. – Я люблю с чаем пить.
Колесник добавил:
– Да хорошего, старого, и бутылку рому.
– Я думала, что ты не согласишься, – сказала она, когда лакей ушел.
– Для тебя? Проси все, что хочешь. Ты думаешь, что я стану скаредничать в мелочах?
– Люблю молодца за нрав, – сказала она. – А что деньги? Человека за них не купишь. И я такая. Сколько через мои руки прошло всякого добра? А где оно? Раздала. Все, что было, то сплыло. Однако – живу.
– Ну, я своего не упущу, – сказал Колесник, – благодаря глупым панам, выбравшим меня в члены, я теперь могу спокойно жить. Хоть, может, и больше не выберут, а Веселый Кут и две тысячи десятин кого угодно успокоят навек. Буду теперь хозяином.
– Ты купил Веселый Кут?
– Да.
– Это недалеко от Марьяновки?
– Тот самый. А ты откуда Марьяновку знаешь?
Она только вздохнула. Лакей принес вино, ром, поставил на стол и бесшумно скрылся.
– Ты что, из тех краев? – спросил Колесник.
– Много будешь знать – скоро состаришься, – ответила она, придвигая к нему стакан чаю, наполовину смешанного с ромом.
– Да… Эх! Кабы сбросить двадцать лет… а то одно только горе, – сказал Колесник.
Наташа с жадностью принялась пить. Чай, наполовину разбавленный вином, утолял жажду. Осушив стакан, она сказала:
– Я еще буду пить.
И налила еще больше вина в стакан. Медленно отхлебывая обжигающий напиток, она все больше краснела, – хмель заметно сказывался и на ее лице, и в движениях, и в разговоре.
– А ну, пройдись по одной доске, – сказал он, смеясь.
– Думаешь – не пройдусь? Так вот же тебе! – Схватив свечу, она поставила ее на пол. Потом, подняв еще выше свое короткое платье, медленно зашагала. – Гляди же! – крикнула она.
Она мелкими шажками прошлась по комнате. Потом закружилась вокруг него и в изнеможении упала. Он с трудом поднял ее и положил на диван.
Колесник долго хлопотал, пока удобно устроил ее. Он принес подушку из спальни, положил ей под голову и уселся рядом. Как белая лилия, лежала она, затянутая в черный бархат. На лбу выступили капельки холодного пота, высоко и порывисто подымалась грудь, точно ей не хватало воздуха.
Долго она лежала совершенно неподвижно, потом открыла глаза и тяжело вздохнула.
– Ох! Закружилась я, – произнесла она тихо и снова закрыла глаза.
– Не надо было столько пить, – укоризненно произнес Колесник.
– Разве я много пила? – сказала она немного спустя, повернув к нему порозовевшее лицо, на котором только сохранились следы усталости. – У меня так всегда бывает, когда я много резвлюсь. Один доктор сказал, что я от этого умру.
– Много они знают, твои доктора, – буркнул Колесник, снова взяв стакан с ромом.
– Должны знать. Для чего-нибудь они ж учились столько лет…
– Чтобы столько лет… людей морочить.
Она на минуту задумалась, а потом снова грустно заговорила:
– Кто только их не морочит?
– Кого?
– Людей. Ты – меня обманываешь, другой – тебя. Каждый готов обмануть другого. А нам больше всех достается.
– Да и ваш брат как приберет к рукам, все кишки вымотает.
– Есть такие, есть. Только разве они такими родились? Вы же сами их сделали такими. Обманете, выбросите человека на улицу, голого и босого, куда ж ему деваться? Просить милостыню – стыдно, красть – грешно.
– А работать?
– Работать? Когда вы человека так обидите, ему и свет не мил.
– Не верь.
– Как не поверишь, когда каждое слово его до самого сердца доходит. А вот обманут тебя раз, другой, а потом уж и себе перестаешь верить. Тогда и пускаешься во все тяжкие. Ты думаешь, что мы охотно идем на такую жизнь? Сладко, что ли, вертеться перед таким, на которого мне и смотреть тошно. Ох, если б ты знал, как нам порой бывает горько! Если бы в это время рядом была глубокая река, так бы и бросилась в нее! Разве мы – люди? Только лицо у нас человеческое, а сердце в невылазном болоте затоптали. Знаешь что? Ты, говоришь, купил Веселый Кут? Возьми меня к себе. Как Бога, почитать тебя буду. Может, я там привыкну. Возьми! – И она поцеловала его жилистую багровую руку.
– Кто же ты?
Она взглянула на него. Потом вынула из-за корсажа бумажку и подала ему. Это был паспорт крепостной из Марьяновки – Христины Филипповны Притыки.
– Так ты Христина? – спросил он ее. – Почему ж тебя зовут Наташа?
– Такой у нас обычай – всем дают другие имена.
– Христя… – произнес он задумчиво, что-то с трудом припоминая.
– Помнишь Загнибиду?
– Так ты та самая Христя, что у Загнибиды служила? Говорят, ты жену его задушила.
– Сказать все можно.
– Да я знаю, что это ложь. Ты потом служила у Рубца. По городу ходил слух, что вы с хозяйкой Проценко не поделили.
Христя только тяжело вздохнула.
– Не напоминай мне о нем. Прошу тебя. Это горе мне и по сей день сердце гнетет. От него и пошли мои беды… – начала она жалостливо, но вдруг поднялась и чуть не крикнула: – Я сегодня с трудом сдержалась, чтобы не плюнуть ему в глаза, когда он подглядывал в окно.
Она задыхалась от гнева, душившего ее.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
На следующий вечер в сад повалил чуть ли не весь город посмотреть на красавицу арфистку, но Наташи в этот вечер не было. Не было ее и на другой, и на третий, и на четвертый…



