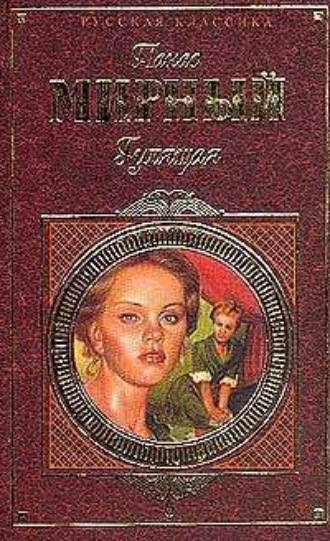 полная версия
полная версияГулящая
Вдруг послышался издалека неясный шум, топот. Он приближался, становился все отчетливей. Вот уж и собака во дворе залаяла, слышен шум около хаты.
– Эй! Отворяйте!
Христя узнала голос Грыцька. Сердце у нее упало.
– Кто там?
– Вставайте! Зажгите свет! – кричит Грыцько.
– Не пускайте, мама! Не пускайте!.. – испуганно говорит Христя.
– Кто там? – снова спрашивает Приська.
– Открой – увидишь.
– Не открою, пока не скажете кто.
– Ат-ва-ряй! А то хуже будет, если сами отворим! – кричит чей-то незнакомый голос.
«Господи! Разбойники!» – подумала Приська.
– Да открывай, – говорит Грыцько. – Становой тут. Пришли твою дочку поздравить.
У Приськи отнялись руки и ноги. С трудом она зажгла плошку и отворила дверь.
В хату ввалились пятеро: становой, писарь, Грыцько, сотские Кирило и Панько.
– Где она? – спросил становой, обращаясь к Грыцько.
– Вот молодая, – указал Грыцько на Христю.
– Ты Христина Притыка?
Христя молчит – ни жива ни мертва стоит она перед становым.
– Она, она, – говорит Грыцько.
– Ты служила в городе?
– Служила, ваше благородие, – кланяясь становому в ноги, отвечает Приська.
– Не тебя спрашивают!
– Служила, – говорит Христя.
– У кого?
– У кого же я служила? У Загнибиды.
– Ты не видела или не рассказывал кто тебе, как его жена умерла?
– Я тут была, – робко начала Христя. – Хозяйка меня домой отпустила. Возвращаюсь в воскресенье вечером – в хате никого не слышно. Я в комнату, а там хозяйка лежит и уж говорить не может.
– Что же, она больна была?
– Видно, больны, не разговаривали.
– Хм… – произнес становой, оглянувшись. – Так она больна была, как ты уходила домой?
– Нет, здорова, а когда вернулась, застала больной.
– Она тебе ничего не говорила?
– Ничего. Она ж не могла говорить.
– А денег тебе не давали никаких?
– Нет, не давали.
– А у тебя деньги есть?
– У матери.
Приська открыла сундук, вынула деньги и подала их становому.
– Так… так… – глядя на ассигнацию, сказал становой. – Где ты ее взяла?
– Хозяин дал.
– О, да ты мастерица врать… А больше у тебя денег нет?
– Нет.
– Врешь, сволочь! – крикнул становой.
– Ей-Богу, нет!
Приська, дрожа как осиновый лист, глядела на дочь горящими глазами.
– Дочка, дочка! Что ты наделала? – крикнула она. – Признайся, если знаешь что-нибудь.
Христя точно окаменела.
– Что ж ты молчишь? Боже мой, Боже! – ломая руки, простонала Приська.
– Что ж мне говорить, мама?
– Как – что? Скажи, где деньги взяла, – крикнул становой.
– Хозяин дал.
– За что он тебе дал их?
– Я и сама не знаю. Сунул в руку, и все.
Грыцько захохотал.
– Такие деньги, – сказал он, смеясь.
– Теперь уже поздно, – шагая по хате, сказал становой. – Взять молодую в волость, а возле старой поставить сотских. Никого сюда не пускать! Слышишь? – обратился он к Грыцько.
– Слышу, ваше высокоблагородие.
Становой с писарем вышли из хаты.
– Ты тут оставайся, Кирило, – распорядился Грыцько, – а мы с Паньком отведем городскую красавицу туда, где ей давно следует быть… Только – слышал? – никого не пускать сюда… Я знаю, что вы были с покойным приятелями… Гляди! Пустишь кого – сам сядешь… Запрешь за нами дверь… и смотри мне – не спать! Другого на подмогу пришлю из волости.
– Ладно, – ответил Кирило.
– Чего ж ты стоишь? Собирайся! – крикнул Грыцько Христе, которая замерла на месте, белая, как стена, и, кажется, не сознавая, что с ней происходит.
– Слышишь? Кому говорю? – снова крикнул Грыцько. – Видишь, какая робкая, а людей душить не робеет.
Приська, стоявшая около печи, словно пришибленная, при этих словах вся затряслась.
– Врешь! – крикнула она не своим голосом. Лицо ее побледнело, и глаза горели.
– Хе-е! – сказал Грыцько. – Погоди, не заговаривай зубы… Мы все раскопаем, все разведаем… Как вы людей с ума сводите и как на тот свет отправляете… Все разнюхаем!
– Врешь, проклятый! – зашипела Приська, бросившись на Грыцько. Лицо ее посинело, глаза готовы были выскочить из орбит. Она похожа была на разъяренного зверя.
– Ну-ну! Завтра увидим! Завтра все покажет, – отступая, сказал Грыцько, понизив голов. – Бери, Панько, эту барышню, и пойдем.
Панько, высокий, светловолосый, подошел к Христе, тронул ее руку и тихо сказал:
– Пойдем, девка!
– Да ты ее свяжи, а то – ночь на дворе, еще убежит, – приказал Грыцько.
Панько снял с себя пояс и начал скручивать Христе руки.
В хате как в гробу… Минута, другая… И вдруг что-то с шумом упало… Оглянулся Кирило – среди хаты лежит Приська. Глаза у нее закрыты, лицо помертвело.
– Вот это так! – крикнул он, всплеснув руками.
– Не выдержала! Спрысни ее водой, – оглянувшись, сказал Панько, затягивая узел на руках Христи. Кирило бросился в сени.
– Не сдохнет! Оживет… Бабы, как кошки, живучи, – бросил Грыцько, выходя из хаты.
– Что же вы стали? Веди ее, – крикнул Грыцько.
– Пойдем, – сказал Панько.
Христя зашаталась, как пьяная, ступила раз-другой и скрылась в темных сенях. За ней вышел и Панько, держа в одной руке конец пояса, а другой торопливо надевая шапку.
Хата опустела. Желтые пятна света от плошки падают на пол, освещая страшное лицо Приськи. Из раскрытых дверей, из сеней, печи, углов подкрадывается темнота, точно хочет погасить тусклый огонек. В сенях слышится шорох: это Кирило в темноте ищет кадку с водой. А со двора доносится собачий лай. Страшно, страшно!
У Кирила волосы встали дыбом. Наконец он нашел кадку, набрал полную кружку воды и, войдя в хату, вылил ее на Приську. Та хоть бы пошевельнулась!.. Только заблестели при свете плошки капли воды на лице лежавшей. Словно искры усеяли ее помертвевшее лицо.
– Вот такая наша жизнь! – сказал Кирило, склонившись над Приськой.
Прошло несколько мгновений. Из уст Приськи вырвался вздох. Кирило снова бросился в сени, набрал воду в кружку и вылил на голову Приськи. Она раскрыла глаза.
– Матушка, матушка! – жалостливо сказал Кирило, наклонившись к ней.
– О-ох! – простонала Приська. Лицо ее чуть-чуть оживилось.
– Нет ее? – глухо произнесла она, поднимаясь. – Где же смерть моя? Где она ходит? – и, вцепившись в волосы руками, заголосила.
Кирило попытался ее утешить.
– Не плачьте, матушка, не убивайтесь. Это дурные люди наговорили. Чего только не наплетут злые языки?
Приська не слушала его и продолжала голосить. Ее рыдания наполняли хату безысходной тоской и безнадежностью.
«Ну, что тут скажешь? Чем утешишь?» – подумал Кирило и, махнув рукой, опустился на лавку.
Приська голосила. Собака, подойдя к окну, начала подвывать. Страшный собачий вой сливался с жутким рыданием охрипшей Приськи. У Кирила разрывалось сердце.
– Эх, проклятая служба! – крикнул он и выбежал из хаты.
– Вон! Вон! – кричал он на собаку во дворе. – Хоть бы у тебя, проклятой, язык отнялся! – Что-то тяжело шлепнулось в темноте… Это Кирило запустил камнем в собаку. Та, бросившись от окна, еще отчаянней залаяла. – Лучше уж лай, чем вой, проклятая! – крикнул Кирило и вернулся в хату. Приська, уткнувшись головой в пол, не переставая, голосила.
Сотскому тоскливо и страшно. Он то ложится на лавку, закрывает голову свиткой, чтобы не слышать этого страшного плача, то срывается и бежит во двор к воротам поглядеть – не идет ли кто, и, не дождавшись, снова возвращается в хату.
Но вот он заметил, что какая-то фигура направляется ко двору Приськи.
– Кто это? – окликнул Кирило.
– Я.
– Ты, Пронько?
– Я. Как тут – спокойно?
– Спокойно: и в хате не усидишь.
– То же самое и там. Думал – сдурею. На минутку затихнет, а потом как начнет снова, аж в ушах гудит!
– А тут ни на минуту не смолкнет, все воет. Вот послушай.
Из хаты донеслось приглушенное рыдание.
– Вот тебе и всенощная! – прислушиваясь, сказал Панько.
– И поп так не сумеет… А зачем тебя прислали сюда, разве больше никого не было?
– Я сам вызвался. Думаю, хоть проветрюсь.
– А я думал, другого пришлют. Пусть бы посидел в хате, а я б хоть у ворот прикорнул.
– Нет, спать не надо. Вдвоем все-таки сподручней.
– Так клонит ко сну, сил нет, – зевая, сказал Кирило.
– В солому бы!
– А-а, хорошо в соломе!
– А полночь уж есть? – немного помолчав, спросил Панько.
– Должно быть. Большая Медведица была посредине неба, а теперь вон как низко опустилась, – взглянув ввысь, сказал Кирило.
Наступило молчание. И отчетливей слышно стало причитание Приськи.
– Чего ж мы тут стоим? Пойдем в хату, а то как бы там чего-нибудь не случилось, – сказал Панько.
– Идем. Послушай и ты, – нехотя откликнулся Кирило.
– Добрый вечер! – сказал Панько, входя в хату.
Приська, услышав чужой голос, умолкла.
– Здорово, тетка! Что ж ты валяешься на полу? Разве на нарах нет места?
– О-ох! – тяжело вздохнула Приська и снова заплакала.
– Вот ты плачешь, а дочка тебе кланялась. «Скажите, – говорит, – матери, пусть не убивается. Это все людские наговоры».
– Ты видал ее? – спросила Приська, поднимаясь с пола.
– Только что.
– Где ж она?
– В волости.
– Не плачет? Господи! Хоть бы мне ее еще раз увидать и спросить, откуда такая напасть.
– Напасть – она не разбирает.
– Правда твоя… Сам Бог милосердный, видно, послал тебя, а то я уж думала, и не услышу о ней ничего.
– Кланяется, кланяется и говорит, чтобы не тужила.
– Что ж это такое? Не слышал ли ты хоть стороной, добрый человек, за что нас Господь карает?
– Стороной?… Разное говорят. Чего люди не придумают?
– Ох, и придумают? Да разве от этого нам легче?
– Я слышал, – начал Панько, – писарь становому рассказывал, что кто-то видел, как Загнибида жену душил. Его уже, вероятно, в тюрьму посадили. Так он начал каверзы строить – недаром писарем был. «Я, – говорит, – ее не душил, может, кто другой, может, служанка, потому что денег, что я дал жене спрятать за день до ее смерти, не оказалось». Ну, известное дело, бросились деньги искать.
– Христя ж божилась, что он сам дал ей эти деньги.
– Может, и сам, а теперь видишь, куда он гнет.
– Боже, Боже! – молитвенно сложив руки, произнесла Приська. – Ты все видишь… все знаешь. Отчего ж ты не откликнешься, не оглянешься на нас, несчастных? – и снова заголосила.
– Перестань, тетка, и послушай, что я тебе скажу. Хватит тебе плакать и убиваться, слезами не поможешь. А лучше полезай на печь и усни. Может, Бог тебя во сне надоумит, что делать.
И странное дело – Приська поднялась, вытерла слезы и поплелась к нарам.
– Вот так оно лучше будет, – сказал Кирило одобрительно, примащиваясь на лавке.
– А мне где? Разве головой на порог? И то ладно будет, – говорит Панько, располагаясь на полу.
Все лежали молча. Тяжелые вздохи Приськи, раздававшиеся от времени до времени, свидетельствовали о том, что она не спит. Но вот и она затихла.
– Уснула? – спросил Кирило, подняв голову.
– Должно быть…
– Утешил ты ее…
– Как видишь.
– А взаправду ты не слышал, что там за оказия? Я не верю, чтобы Христя могла такое сделать.
– Да и я не верю. Только… откуда у нее эти чертовы деньги взялись? Немало ведь – пятьдесят рублей, – сказал Панько.
– Так он, верно, сам ей дал…
– Да кто его знает? Мы же там не были. Может, и сам дал… Только за что такие деньги дать?
Кирило собирался что-то ответить, но страшный плач снова раздался в хате. Он переглянулся с Паньком, и оба молча почесали затылки. А Приська как завела – так уж до самого утра…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
«Где смерть моя ходит? Куда она девалась?» – одно голосила Приська. Она уже во всем изверилась. Одна была надежда, одна утеха, которая красила ее постылое существование, но и та обманула… Ее родная дочь – ее кровь… на такое пустилась, загубила чужую душу. Так говорят люди, об этом допытывался и становой, поэтому он все перерыл в хате. Хотя у нее больше ничего не нашли, кроме этих проклятых денег, которые она сама отдала… Но откуда они? Тут что-то есть… Христя говорит, что хозяин ей дал. Если б ей разрешили видеться с дочкой, она бы заглянула ей в самую душу. А теперь?…
Христю на другой день угнали в город, а с Приськи только сняли допрос, так как не нашли ничего, что говорило бы о ее причастности к этому делу, хотя Грыцько и убеждал, что старуха не без греха. Верно, сама и подсунула дочке отраву, да и молчит, проклятая!
Приська молчала. Да и что ей говорить? Она изверилась в силе слов, и они, как люди, приносили ей только беды и никакого утешения. Одно у ней желание – поскорее умереть… «Боже! Где смерть моя ходит? Пошли ее скорее!» – подняв руки, молила она.
Минуло три дня. Три дня слез и рыданий, скорби и отчаяния. Приська не пила, не ела и света Божьего не видела. Ни сна, ни отдыха – одни только слезы. И так каждый день. Солнце всходит и заходит, и снова всходит, а Приська и не замечает этого. Лежит все время, скорчившись на нарах. От слез свет померк в ее очах, от рыданий голос надорвался. Она ничего не сознает, не видит, не слышит. Только сердце бьется. О, если б оно не билось больше! Вонзить бы в него острый нож или задохнуться в чаду! Но нет, как трухлявое дерево, она все еще стоит на ногах, не падает…
За эти три дня Приська изменилась до неузнаваемости: глубоко запали глаза, ввалились щеки, потрескались губы; нечесаные волосы сбились в космы и желтели, как увядшие листья кукурузы; вся она скорчилась в три погибели и выглядела не живым человеком, а выходцем с того света!
Так показалось и Одарке, пришедшей через три дня проведать Приську. Она бы, может быть, и не пришла, если бы не заметила, что уже третий день ни одна живая душа не появляется на дворе Приськи, а наружная дверь все время раскрыта. «Может, старая, умерла», – подумала Одарка и, дрожа от страха, вошла в хату соседки.
– Тетечка! Живы ли вы еще? – тихо спросила Одарка.
От того ли, что Приська уже три дня не слышала человеческого голоса, или от участия, которое чувствовалось в словах Одарки, но Приська пришла в себя, вздрогнула и раскрыла глаза. Она порывалась что-то сказать, но губы невнятно шептали, и она безнадежно махнула рукой.
– А я насилу к вам собралась. Так некогда, так некогда! Карпо весь день в поле, пока управишься с хозяйством, а тут надо ему обед нести… – оправдывалась Одарка.
Приська молчала.
– Как же вас тут Бог милует? – спросила Одарка. – Что это за напасть такая?
– Напасть? – глухо произнесла Приська. – Что ты говоришь? Какая напасть? – и безумными глазами взглянула на Одарку.
У Одарки мороз пошел по коже. Немного погодя она спросила:
– Тетечка, а вы меня узнали?
– Тебя? Как же тебя не узнать? – с кривой пугающей усмешкой проговорила Приська.
– Кто ж я такая?
Приська снова усмехнулась.
– Кто ты такая? – тихо спросила. – Человек!
Одарка перекрестилась и, вздохнув, сказала:
– Не узнает…
– А ты зачем пришла? – немного погодя спросила Приська.
– Проведать вас: как живете? Может, вам сварить что-нибудь поесть?
– Есть?… Как живем?… В том-то и беда, что живем, – сказала она, и лицо ее задрожало. Послышалось какое-то хрипенье, потом слезы полились из ее глаз.
У Одарки сжалось сердце от невыносимой жалости.
– Тетечка… я ж соседка ваша – Одарка, – сказала она.
Приська перестала плакать и вскинула на Одарку красные, воспаленные глаза.
– Я знаю, что ты Одарка, – сказала она спокойно. – По голосу узнала тебя… спасибо, что не забыла.
– Может, вам что-нибудь нужно, тетечка?
– Что ж мне теперь нужно? Смерть – так ты ее не принесла и не принесешь.
– Бог с вами, тетечка, одно зарядили – смерть да смерть…
– Ну, а что мне нужно, по-твоему? Скажи – что?…
– Вы хоть ели что-нибудь?
– Ела… видишь, жива еще, стало быть, ела… Вот только в горле пересохло, от жажды все горит.
– Подать вам воды?
– Подай, пожалуйста.
Одарка бросилась к кадке, а из нее уже затхлым несет. Она вылила воду из кружки и побежала к себе во двор. Не мешкая, она вернулась с полным ведром свежей воды и поднесла кружку Приське. Та жадно припала к ней и не отняла губ, пока не выпила все до последней капли.
– Ох! Будто снова родилась, – сказала она и опять легла.
– Подождите, я вам постелю, – Одарка проворно взбила подушку, положив ее у стены, и застлала нары рядном.
Старуха примостилась на постели.
– Спасибо тебе, Одарка. Ты меня оживила этой водой… Боли улеглись… Тут только, – она указала на то место, где находится сердце, – не прошли.
– Может, вы бы съели что-нибудь? Скажите – я сварю или своего принесу. Борща или каши?
– Нет, не хочу…
Сон ее одолевал или от слабости она закрыла глаза?
Видя, что Приська впадает в забытье, Одарка попрощалась и ушла.
«Пусть уснет… может, ей легче станет. Совсем слабой стала! Не долго ей, видно, осталось мучиться!» – думала Одарка, возвращаясь домой.
– Ну что? Как она? – спросил ее Карпо.
– Хорошо, если еще три дня протянет.
– Да… и попа некому позвать.
– Напилась воды, – немного погодя продолжала Одарка, – повернулась на другой бок… я ей постелила… да и начала засыпать. Пусть отдохнет, а вечером я еще наведаюсь.
Заходило солнце, багровое зарево стояло над горизонтом. Оно не заглянуло в окна Приськиной хаты, выходившей на восток. Одарка, придя, застала там сгустившийся сумрак, только на окнах мелькали неясные желтые блики, словно подслеповатый человек мигал своими мутными глазами. Приська лежала на нарах желтая, как воск, и неподвижная. Одарка подошла к ней ближе – взглянуть, жива ли она еще. Приська встрепенулась, раскрыла глаза.
– Спали? – спросила Одарка. – А я иду и боюсь, как бы вас не разбудить.
– Это ты, Одарка? Сядь, – тихо сказала она, указывая на место рядом с собой.
Одарка села.
– О-ох! – простонав, еще тише заговорила Приська. – Вот я лежала с закрытыми глазами… и так мне хорошо, тихо, спокойно… Чувствую, как все внутри застывает во мне… а хорошо… Не поверишь, Одарка, как мне жить опротивело… Будет, всему конец должен быть!.. Я скоро умру… Ты одна еще меня не забыла. Такой целебной воды мне дала, что от нее вся боль утихла… Спасибо тебе… О-х! Все против меня, все… только ты одна… Господь отблагодарит тебя.
Одарка порывалась что-то сказать.
– Постой, – перебила ее Приська. – Я хочу тебе все сказать… все… в другой раз, может, не придется. Слушай… я скоро умру… Если увидишь дочку… Христю… скажи ей: я прощаю… не верю, чтобы она такое сделала… А это что выглядывает из-за твоей спины? – вдруг испуганно вскрикнула она и вся затряслась. Лицо ее задергалось, рот искривился, глаза затуманились.
Одарка видела, что в них угасает последняя искорка жизни. Желтый луч заката, на миг ворвавшийся в комнату, осветил почерневшее лицо Приськи, ее померкшие глаза и угас. Хата утонула в густом сумраке. Или потемнело в глазах у Одарки?
Когда она стряхнула с себя внезапное оцепенение, перед ней лежала бездыханная Приська с помутневшими глазами.
Одарка сорвала с себя платок и закрыла им голову умершей.
– Ну что? – снова спросил ее Карпо, когда она вернулась домой.
– Умерла…
Карпо испуганно вскрикнул:
– Что ты говоришь?
– Говорю, что умерла.
Карпо развел руками.
– Умерла, – прошептал он. – Дождалась своего… Что же теперь делать?
– Людей надо позвать и хоронить ее.
– Кто ж пойдет?
– Кто хватится, тот и пойдет, а если нет… – Одарка вдруг умолкла, не закончив фразы.
– Ну, а если никто не пойдет, что тогда? – спросил Карпо.
– Как – что? Не оставаться же ей там…
– Я знаю. Но кто будет хоронить?
Они оба умолкли.
– Надо в волость заявить, – немного спустя ответил Карпо. – Пусть делают, что хотят… Да, да… надо идти…
– Так иди скорее, уж смеркается, – торопила Одарка; она уселась на нарах, подперев склоненную голову рукой.
Карпо ушел. Одарка сидела неподвижно, устремив глаза в одну точку. Дети, испуганные разговором родителей, затихли.
– Умерла, – тихо сказала Аленка брату. – Кто умерла?
– Тише… видишь, мамуся печалится.
Надвигалась ночь. Над горизонтом еще желтела узкая полоска заката, а в хате было уже совсем темно. Одарка сидела по-прежнему, охваченная тяжелыми мыслями.
«Вот такое творится… И похоронить некому, да и не на что. Хоть бы Христе рассказать. Да как же ей передать? Где она теперь? Может, за такими запорами, что и слух до нее не дойдет. Господи! Вот это смерть – даже врагу такой не пожелаешь! Уж лучше погибнуть от руки злодея… тогда скорей найдутся люди, что пожалеют – похоронят. А тут? Все отстранились, как от напасти. В чем она виновата?… Да и нет у нее ничего за душой, нищета такая. Люди не захотят яму копать… поп даром отпеть не согласится…» – Одарка вздрогнула.
– Вот оказия! – входя в хату, сказал Карпо. – Из волости сейчас наряд прибудет. Нельзя хоронить.
– Почему?
– Да видишь – все это проклятое дело… Старшина говорит: может, она сама на себя руки наложила. Надо известить станового. Пока становой не прикатит, делать ничего нельзя.
– Так до него ж не близко – тридцать верст. Пока туда да обратно будут ехать, дня три пройдет.
– Хоть бы и неделя – все равно!
Одарка только пожала плечами, встала и зажгла свет.
Как ни тяжела чужая беда, а свои заботы ближе к сердцу. И у Одарки полно хлопот. Ночь на дворе, дети уже сонные, а она еще ужина не готовила. Заметалась Одарка по хате печь топить, муку достать.
– Подождите немного, деточки, я сейчас галушки сварю.
– Мама, – окликнула ее Оленка.
– Что, доченька?
– А кто умер?
– Бабуся.
– И не будет ее больше… В яму – бух, – говорит Оленка, показывая ручонкой, как упадет бабуся в яму.
«И этого еще долго ждать», – с горечью подумала Одарка, замешивая тесто в большом и широком глиняном горшке.
– Поскорее состряпай ужин, – сказал Карпо, – а я пойду погляжу, что там делается. – И он вышел из хаты.
Одарка окликнула его.
– Карпо!
– Чего тебе? – отозвался он из сеней.
– Не забудь там платок взять.
– Какой?
– Да мой. Надо же было ей глаза прикрыть.
– Ладно…
Одарка хлопотала у печи. Дети забились в угол нар и оттуда молча следили за работой матери. А у той все не ладилось. Сырые кизяки больше трещали, чем горели, и, чтобы поддержать огонь в печи, Одарке пришлось несколько раз подбрасывать сухую солому. Вспыхнувший сноп ярко освещал хату, огненные блики скользили по черным стеклам окон, по стене метались длинные тени, видно, как Одарка бросает галушки в горшок с кипящей водой. Но сгорит солома, погаснет свет – и тень Одарки куда-то исчезает, и сама она погружается в сумрак… потом подбрасывает еще пучок соломы… и снова колышутся тени в хате.
– Смотри, смотри… Вот мамина рука… Вот голова… нос, – говорит Миколка, указывая пальцем на стену.
Оленка посмотрела, и они дружно засмеялись. Одарка рада, что дети играют, и продолжает усердно работать.
Вот и ужин готов. А Карпо еще не вернулся. Что его там задержало?
– Посидите, деточки… Я побегу отца позову. – И Одарка вышла из хаты.
В Приськиной хате еле тлеет огонек в плошке, тускло освещая верхнюю часть комнаты, а внизу царит густой сумрак. На нарах, прикрытое платком, чернеет тело Приськи. Порой на него падает отблеск из колеблющегося пламени плошки, – кажется, будто платок шевелится, – и быстро ускользает. На лавке у стены безмолвно сидят Кирило и Панько.
– А что тут у вас – благополучно? – войдя в хату, с трубкой в зубах, спросил Грыцько.
– Что ж тут может быть? Мертвая лежит… – ответил Панько, указав на нары.
Грыцько, выпустив изо рта дым, повернулся и посмотрел на умершую.
– Вот Карпо пришел за платком, – сказал Кирило. – Жена его закрыла глаза покойной… так он хочет его взять… Отдать?
– А кто видел, как она закрыла глаза?
– Мы не видели… Он говорит.
– Нельзя. Пока становой не приедет.
– Своего взять нельзя?
– Своего? – буркнул Грыцько, сплюнув. – А откуда мы знаем, что это твое? Может, кто задушил старуху и прикрыл сверху платком.
Карпо вздрогнул. «Вот это так! Еще из-за платка напасть будет», – словно молотком застучало в голове. Грустные предчувствия закрались в его душу.
– Карпо! Карпо!
На пороге хаты стояла Одарка.
– Иди ужинать.
– Нельзя, говорят, платка брать, – сказал Карпо жене.
– Почему? Это ж мой платок, – удивилась Одарка.
– Нельзя – и все! – сердито буркнул Грыцько. – Откуда мы знаем, что он твой?
– Так я ж им закрыла глаза покойной.
– А мы были при этом?
– А почему вас не было? Где вас носило? – начала кипятиться Одарка. – Напасть на человека навести, век ему укоротить – вы мастера, а глаза закрыть умирающему вам трудно!



