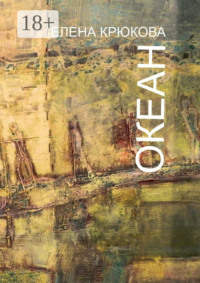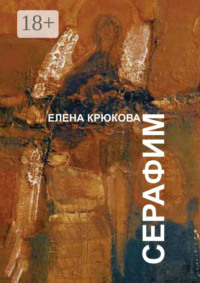Полная версия
Железный Тюльпан
Пока у него еще были деньги на счету – он снимал их со счета и снимал себе квартиры, съезжая с них, меняя их одну за другой; когда деньги заканчивались, он подыскивал себе жилье подешевле. Вы знаменитый мистер Ахметов?.. «Я его однофамилец», – мрачно шутил он. Его зубы желтели от табака. Что ни день, он шел в банк, засовывал карточку в банкомат и снимал доллары, снимал, снимал. И шел в ювелирные лавки – как тогда, при ней, вместе с ней. Как она любила копаться в украшениях! А он любил их ей покупать. Теперь он покупал бирюльки один. Складывал в карман настоящие ожерелья, поддельные серьги, неистово сверкавшие – хоть сейчас на президентский бал в Белом Доме – алмазные колье, мишурную бижутерию, стоившую у негров близ статуи Свободы два доллара – для туристов. Вместе с камнями он покупал и ткани. Ему нравились дорогие ткани – и блестящие, и матовые, переливы бархата, перламутровая свежесть атласа, павлинья роскошь китайских покрывал, расшитых хризантемами и райскими птицами. Он был художник, и он был восточный человек. Ему нравилась роскошь Востока, и он любил ее живописать. Он раскладывал купленные ткани на стульях, столах, на спинках кресел, налаживал мольберт, устанавливал холст, давил краски из тюбиков, писал и плакал. Кисть выводила блики на атласе, а он плакал об ушедшей жене, называя ее то непотребными, то нежнейшими именами. «Она имела право на свободу, – шептал он себе, – имела, ты же не можешь это право у нее отнять».
Краски пахли терпко и остро, как фрутти ди маре. Океан был совсем рядом. Комнаты менялись, он переезжал, снимая все более дешевые, и все меньше вещей становилось у него – лишь угловатый, как скелет, мольберт оставался неизменным. Он научился много и жадно курить, покупал все более дрянные сигареты, наловчился курить табак, раскуривал трубку, крутил «козьи ножки». В комнате, уже нищенской, голой, пахло разбавителем, лаком, подсыхающим на холсте маслом – он писал картину, как всегда, подолгу, тщательно накладывая лессировку за лессировкой. Кровать он застилал уже не бельем – странными тряпками: дорогими атласными драпировками, ободранными свитерами, старыми сэконд-хэндовскими плащами, купленными за гроши, кусками рытого бархата, вышитого искусственным жемчугом. «Я Рембрандт, – шептал он, – я Рембрандт. Саския, зачем ты уплыла к этим козлам, к красным кардиналам. Я тебе никогда не прощу». Когда он называл ее шлюхой, ему на миг хотелось шлюху. Он надевал плащ, всовывал в зубы сигарету, выходил на улицу, слонялся, заглядывая в лица женщин. Проститутку было видно издалека. Они ошивались обычно у ночных баров. Отловить их не составляло труда – они сами вешались на шею. «О, бэби, какой ты классный!.. пойдем?.. а сколько дашь?.. от тебя пахнет скипидаром, ты что, с автозаправки?..» Когда он говорил, что художник, – девки визжали: «А нарисуешь?!» Он обещал нарисовать – и держал слово. Он приводил шлюх домой, кормил тем, что валялось в холодильнике, поил – обычно покупал спиртное подешевле в маркете поближе, – варил им кофе, подносил в старинной, антикварной чашечк на серебряном подносе – жена любила пить кофе из этой чашечки. Шлюхи хохотали: ах, как мило! Он шептал: сиди тихо, вот так, так, я буду тебя рисовать. Он писал их маслом, ловя их движения, повороты их голов, раззявленность распутных губ, и, случалось, он засыпал за мольбертом, падая лбом на палитру, вымазывая лицо в краске, а девки, порывшись у него в закромах, в карманах и в тощем кошельке, дочиста обирали его, ощипывали, как липку.
Красные буквы льются по стеклу. Красные буквы льются, льются.
Он смотрел на буквы пристально, будто хотел их вырезать из стекла, унести с собой, наклеить на холст, – присвоить. Красок у него уже было очень мало, он не мог себе купить красок столько, сколько покупал там, в Америке. Он вернулся сюда нищим, и здесь он был нищим. Какого цвета дно? Дно грязно-серого цвета, подчас – темно-зеленого, этот тон может взять сиена жженная, смешанная с густым волконскоитом. Жизнь на дне мира полна чудес колорита. Живи, радуйся, наблюдай. У него не было достаточно красок, и он приспособился – он делал картины из чего угодно, краски уже были необязательны.
Он делал картины из старых досок; из разломанных ящиков; из обрывков тряпья; из клея и зубной пасты, и засохшая зубная паста, обмазанная клеем, вполне сходила за роскошные голландские белила; он, сладострастно, со свистом всасывая слюну, задыхаясь в упоении и самозабвении выдумки, даже швырял грязь, обычную уличную грязь на холст, сделанный из распоротого мешка из-под картошки, и думал о себе: ай да я, отлично придумал, вывернулся. Вывернулся из-под судьбы?.. Иной раз у него покупали его странные картины, сделанные им из того, на что люди плюют, обо что вытирают ноги, во что кладут одежду и овощи, пахнущие землей. Покупали дешево, прельщаясь именем: а вы не тот самый Ахметов, случайно?.. – и когда он мрачно качал головой: нет, не тот, вы ошиблись, – у покупателя лицо вытягивалось: как жаль, что волшебство кончилось, а мы просто, ну так уж водится на Руси, помогли бедному художнику.
И совсем недавно он сделал картину из старой двери старого гаража. Он нашел эту дверь уже оторванную – она валялась на снегу, – подошел к ней, прищурясь, и в свете зимнего солнца на исчерканном временем, кроваво-ржавом железе сверкнул цветок.
Он отступил на шаг. Наклонил голову. Цветок исчез. Он шагнул ближе – и ослепительный металлический тюльпан проступил так явственно и грозно скоплением иглистых, морозно-колких звезд, так больно хлестнул высверком по глазам, что он попятился и закрыл рукой лицо.
У него была такая картина в Америке. Давно. Он написал ее с натуры.
У него когда-то был такой вот железный цветок. И он перенес его на холст. И на холсте приделал его к телу женщины. Дышащее соблазном, раскинувшее ноги смуглое тело. Стальной цветок – вместо лица. Страшная работа. Он боялся ее. Он никому ее не показывал, ставил холст лицом к стене. Правда, дотошные друзья любопытствовали. Она была еще сырая, когда однажды один ушлый французик, заезжий режиссер, цапнул ее, развернул к себе – и захохотал: «А где лицо у твоей бабы?!» В ту ночь он напился до чертей.
Он изрезал картину ножом в припадке пьяного отчаяния. Дурак он был! Он ее повторит. Ничего, что нет красок, холста. Он теперь мастер инсталляций. Он научился делать искусство из предметов, из мусора, грязи и лома, из мертвых молчащих вещей, окружающих нас.
Он доволок отломанную дверь до своего жилья. Жилье у него было в подвале. Там было тепло и сыро. Слава Богу, батареи все время дышали теплом, не надо было мучиться с дровами, топить печку. Предыдущее его жилище извело его печкой. Он не умел, не мог заготавливать дрова. Истопив весь зимний запас в два месяца, он мерз, грея руки под мышками, покупая самую дешевую водку, какую мог разыскать. А здесь было хорошо. Райское блаженство.
Он положил лист старого корявого железа на пол и долго смотрел на него. Надо сделать из этого вещь. Он всегда умел делать красивые вещи.
И он стал работать.
И он работал долго и жестоко.
И, когда железный тюльпан проявился ясно и ярко, выступил из ржавой тьмы, мерцая металлом холодных лепестков, он засмеялся хрипло и довольно.
Тот, настоящий Тюльпан пропал. Тот, давний, который ему сделали, чтобы…
Тс-сс. Чтобы ничего. Нельзя об этом. Не думай больше об этом никогда. У тебя есть другой цветок. Двойник ТОГО. Ты же художник. Ты сделал себе новую игрушку. Утешься. Ты дома, в России, ты сдохнешь дома, не на чужбине, и у тебя снова есть Тюльпан. Что тебе еще нужно?!
Тот Тюльпан не пропал. Не ври себе.
Ты же видел его в ресторане.
Там, где ты всегда пьешь свою водку.
У той девицы с черной челкой. У той дивы. У знаменитости. Она показала его тебе тогда. За окном. Или это тебе, Ахметов, приснилось?
А если она узнает?!
Она ничего не узнает. Откуда?!
Все тайное становится явным, Канат. Ты же знаешь это. Все тайное когда-нибудь становится явным и страшным.
Я выяснила. Я выяснила все.
Черт побери, об этом же можно было догадаться. Догадываются догадливые, а туполобые утки вроде меня громко машут крыльями, прежде чем взлететь, – и, когда взлетают, меткая пуля бьет их влет, как и задумано.
Я выяснила, что у этого сволочного папарацци записано – дотошно, скрупулезно, как в Библии, как в амбарной книге – как в Интернете – все, касающееся закрытого дела об убийстве Евгения Лисовского. Это бы еще полбеды.
У него, в его дьявольских журналистских записняках и в электронном блокноте, который он таскал с собой, как визитку, в нагрудном кармане, было зафиксировано все, касающееся убийства Любочки Башкирцевой.
Он действительно был помешан на ней. Помешан до того, что… вынюхал даже это?! От кого?! От Юрия он все узнал?! Не может быть. Беловолк молчал бы как рыба. Разве только под пыткой… Горбушко не Малюта Скуратов и не эсэсовец. Потом, жилистый и спороивный, вооруженный – я теперь это знала – Беловолк уложил бы его одной левой. Кто ему все так подробно рассказал?! Кто?!
– Нет, вы послушайте, пожалуйста, послушайте. Ваши ушки не заболят. Почему вы отворачиваетесь? Вас что-то пугает? Вам что-ниюудь неприятно? У нее на шее была рана от длинного и острого предмета, наподобие шила. И женщина, которая была с ней в ночь убийства, испугавшись, сбежала, но продюсер Башкирцевой смог ее отыскать, припугнул, как мог, и стал делать из нее двойника. Почему вы плачете? Я рассказываю что-то трогательное?
Я закусила губу, я кусала губу до крови, но дикие, идиотские слезы ползли, как горячие змеи, по моим щекам.
– Вы думаете, что вы скажете мне все это, и игра закончится?!
– Почему же. Игра только начинается. Игра, как известно, всегда стоит свеч. И вы еще не загнанная лошадь. Вы только начинаете скачки. Я думаю, вы будете иметь успех. Все верят, что вы Люба. Народ верит. При желании Любу можно было бы воссоздать даже посредством компьютерной графики и пускать этот мультик по ящику. И народ верил бы точно так же.
Я схватила со стола зажигалку.
– Вы слишком много курите для певицы… Люба. – Насмешка в его голосе испугала меня. Слишком жестко она прозвучала, как угроза. – Кстати, как ваше настоящее имя? Вы подтверждаете то, что я вам прочитал?
– Протоколист. – Я задыхалась от бессилия. – Сволочь. Сучонок вонючий. – Я вспомнила все своли вокзальные ругательства, что я выпаливала в рожи сучьим клиентам, если они, пытаясь зажилить деньгу, норовили улизнуть от меня, облаять, а то и ударить. – Куриный помет. Откуда ты…
– Мы с вами еще не перешли на «ты», дорогая. Люба мне слишком, – он подчеркнул это «слишком», – слишком дорога, чтобы я стал щадить такую…
– …дешевку, как я, договаривай, гад.
– Такую прожженную тварь, как вы. Итак, вы подтверждаете, что все это правда?
Я резко вытерла глаза выгнутым запястьем.
– Ты, гаденыш. Я покупаю.
– Что – покупаете?
Он смотрел наигранно-непонятливо. Я обозлилась.
– Я покупаю у тебя этот материал. Сколько?!
– Играете в богатейку?.. – Горбушко процедил меня, как через сито, через медленный, пристальный, издевательский взгляд. – Славная бедная девочка, хочет поиграть в богатейку. Не каждый раз такое случается.
Он внезапно встал. Вырос надо мной. Взял меня рукой за подбородок. Крепко сжал мой подбородок жесткими пальцами.
– Я продам этот бесценный материал только за суперденьги… или вообще не продам. Это мое будущее. Это моя слава.
Он стоял, держал мой подбородок в жестких пальцах, тяжело дышал, сопел надо мной, и я ненавидела его больше всего на свете. Кровь бросилась мне в голову. Сейчас я могла бы его убить.
Он замолчал, выпустил из клещей-пальцев мое лицо. Я брезгливо отвернула голову. Все-таки выбила из пачки сигарету. Все-таки крутанула колесико зажигалки.
– Вы не Люба. Хотя играете искусно. И внешне все сработано – не придерешься. Как вам это удалось? Впрочем, это удалось не вам. Беловолку. Вас хорошо вышколили. И вы блестящая актриса. Вы будете еще долго дурить публику. Пока я…
Сволочь, я знала, что он сейчас скажет, сволочь.
– Пока я не открою эту тайну публике… через все газеты… через все телевидение и радио… через Интернет.
Снова молчание. Мне стало по-настоящему страшно.
Страшнее, чем тогда, когда я своим девкам, Акватинте и Серебро, трепалась обо всем. А может, это они?! Ну не дури. Горбушко не мог их найти. Он же не шпионит за мной. Он же не ходит за мной по пятам. Не висит на хвосте у моего «кадиллака».
– Чем мне купить вас, чтобы вы, сумасшедший, не обнародовали все это?!
Я крикнула это громко и хрипло, как прокуренная шалава Лизавета с Казанского. Она, юродивая, слонялась по вокзалу, моталась как помело, хрипло выкликала: «Я пирожок! Я пирожок! Кусай все, кому не лень!» Я тоже былапирожок. Вот – докусались меня. Уж лучше бы сразу сожрали.
Молчание. В полном молчании зазвенел гонг.
Это звенело у меня в ушах.
– Правдой. Вы скажете мне правду. Кто убил Любу.
Горбушко прямо посмотрел на меня. Посмотрел мне в глаза.
И я посмотрела ему прямо в глаза.
И в его глазах я увидела свет безумия, блеск взгляда маньяка, смертельно влюбленного пса, идущего по пятам древнего ужаса.
– А если не скажу?..
– Воля ваша.
– У меня… есть время подумать?..
– Есть.
– Сколько?
Молчание. Молчание висит, мерзнет лицо. Пальцы сжались в кулак. Костяшки пальцев. Костяшки.
Костяшки стучат. Ты была права, Серебро. Часы пошли. Костяшки застучали.
– А если… я не знаю, кто это сделал?! По-настоящему не знаю?!
– У вас есть время узнать. Это в ваших интересах.
Я вглатывала в себя дым, как больные глотают из подушек кислород.
Теперь у меня два поводка. Два. И два хозяина. Все на свете имеет пару. Все раздвоено. Раздвоена судьба. Раздвоена жизнь. У человека две руки и две ноги, два глаза и два уха, и две губы у рта; и только сердце – одно. Может, я феномен, и у меня два сердца. Два хозяина – Беловолк и Горбушко. И второй – пострашнее будет. Беловолк выжмет из меня все, как из певицы. Он понял, спасибо, браво Мише Вольпи, что у меня талант к пению, что я не только мордой похожа на Любу, но еще и певицей оказалась неплохой, и он задался целью – сделать на мне деньги, еще деньги, еще, еще деньги и славу; Люба была его творением, она умерла, и он, чтобы утешиться, сделал двойника. Беловолка еще можно было понять. Я даже на миг восхитилась им: это он сделал Любу бессмертной, а меня – ее продолжением! Но Горбушко…
Горбушко сдаст меня как убийцу, если я не найду ему правду.
Цена правды – жизнь.
Что ж, так было всегда.
А ты бы, дрянь с Казанского, хотела, чтобы было все по-другому?!
… … …
Смотрю на меч,И течет роса по нему.Холодное утро.Я улыбнулся:Плачет и твердая сталь.Басе– Хунну пользовались широкими и короткими мечами. Они предпочитали сражаться тяжелыми, не особенно длинными коваными мечами, такие мечи висели у них на кожаных поясах в плетеных ножнах. У чжурчжэней имелось оружие гораздо более изощренное. Мечи разных видов, и длинные, и короткие, а также разнообразные ножи, несколько сотен и даже тысяч видов ножей. Китайцы, жившие на берегу моря, в портовых городах, и имевшие связи с другими странами, встречая иноземные корабли или посылая в далекое путешествие корабли собственные, привозили издалека чужестранное оружие, и китайские мастера перенимали заморский опыт. Видите, этот нож хоть и сделан на Востоке, а формой он напоминает наваху, нож-рыбу иберийцев. Такой нож если метнуть – он пронзает грудь навылет, не хуже пули. Таким ножом можно убить даже быка, если умело перерезать ему горло. Вот нож для жертвоприношений, кстати. Он выгнут слегка, но не как ятаган, похожий на серп Луны, а чуть-чуть, как рыба чехонь. Да, он на чехонь и похож. До чего красивый. Если его лезвие остро заточено, оно без труда перерезает глотку даже самому сильному зверю – хищнику: медведю, барсу. Охотники в горах охотились с такими ножами на снежного барса ирбиса. На Востоке было также и хитрое оружие, которое было скрыто в разных… Вы спите?.. Зачем вы спите?.. Не спите…
Тени ходили по потолку. Человек, тихо и монотонно говоривший, оторвался от книги. Книга лежала перед ним вверх ногами. Он ощупал пустой стол, как если бы на нем лежали вещи. Он видел эти вещи. Он видел ножи и мечи и иное оружие. Он любовался им. Он медленно произнес, глядя в угол:
– Не спите, прошу вас. Я не рассказал вам самое интересное.
По потолку ходили тени, и казалось, что в кресле кто-то сидел. Может быть, там и впрямь кто-то сидел. Говоривший минуту подождал, потом успокоенно выдохнул:
– Ну вот, так-то лучше. Глазки открылись. Слушайте, дорогой мой. Вы же теперь ее муж, а раньше я был ее мужем; когда я думаю о том, как моя жена ложится под вас, как она раздвигает перед вами ноги, мне хочется завыть и кинуться головой в снег, и так замерзнуть. Но, видите, я жив, и я рассказываю вам всякие забавные вещи и показываю разное оружие. Зачем?.. Для того, чтобы вы… ха-ха, переняли опыт… скопировали… слямзили… сделали точно такое же… такой же нож, такой же вот меч… и убили… убили вашу и мою жену?.. О нет, вы никогда ее не убьете… Мою Риту… мою…
Тень на стене кивнула длинным птичьим носом. В теплом затхлом воздухе пахло табаком. Говоривший возобновил гундосую, мерную речь.
– И вот, поглядите-ка, я еще не показал вам, самое великое оружие – нож для метания вдаль, им можно убить, только если бросаешь его… Когда он летит, он блестит нестерпимо… Его бросают в плясунью на арене цирка, во взбесившуюся лошадь… в неверную жену… Она танцует и закрывает живот рукой, нагой живот, перламутровую грудь, ах, как ее можно написать, кадмий красный густо разбавить белилами, стронциановой желтой, чуть охры добавить… всего два мазка… она пляшет и знает, что сейчас умрет, что все равно я брошу нож, что все равно ты бросишь нож… Это японский нож, это нож самураев, столь же знаменитый, как самурайский меч, и зачем, зачем ты его не сделал мне, ты, собака, лучший друг…
В круге света от лампы, прикрытой драным абажуром, клонилась голова. Волосы тускло блестели сединой. В сморщенном ухе мерцала старым золотом, как слеза, золотая серьга.
Он был один. Нет, их было двое. И он пытался напомнить тому, другому, о том оружии, которое он сделал ему когда-то давно, там, в каменных недрах… – Шанхая?.. Иокогамы?.. Чайна-тауна?.. – по его страстной просьбе, в ответ на его слезы, его мольбу, его ужас, его ненависть.
… … …
Он тупо, набычившись, глядел сквозь стекло. Красная надпись, читавшаяся наоборот, уже не так будоражила его. Он уже не хотел сделать из этой надписи картину – разбить булыжником стекло, вырезать стеклорезом алые буквы, унести домой, наклеить на мешковину. Как бы он назвал такое полотно? Он бы назвал его: «Кровавая Мэри». Повсюду пьют коктейль «Кровавая Мэри», не только в Америке. Они с женой тоже пили его. Жена очень любила грубые коктейли, грубую еду. Любила жареное испанское мясо с бобами, алжирский кус-кус – рис, мясо, вареные овощи. Вино пила кружками. Водку – как извозчик, сказали бы сто лет назад. Теперь в Москве нет извозчиков. А вот в Вене есть, по улицам Вены снуют старинные фиакры. Туристический бизнес, доход, деньга в городскую мошну. А Нью-Йорку не до извозчиков. Нью-Йорк скоро подохнет от автомобилей. Кровавая Мэри, кровавая Кармен, кровавая Машка. Эй, Машка, сюда!.. Развелось проституточек. Так и шныряют между столов, снимают клиентов. Интересно, сколько они отстегивают официантам? Барменам?..
О, опять эта козочка. Она мелькает здесь не впервые. Тоже шлюха?.. Не похоже. Богато одета. А что, богатых шлюх, скажешь, не бывает?.. В наше время все бывает. Чудесное время, Господь, доложу я Тебе. Спасибо, что Ты все так устроил. Ты показал нам, что будет, если мы прорубим окно в Америку. Прорубили. А топор-то наш, старый, русский, тупой. И ко дну идет быстро, стремительно. Куда идешь, козочка?.. Сядь ко мне. Я старый и немного пьяный, ну, да это ничего.
Он разлепил губы.
– Эй, крошка, иди ко мне. Посидим. Мне скучно.
Рука его согнулась в неловком зазывном жесте. Богато, во все черное – в черный шелк, в черный бархат – одетая дамочка смотрела на него во все глаза. «Сейчас плюнет мне в рожу», – подумал он. Она шагнула к нему, отодвинула стул и уселась за его столик.
Она глядела на него из-за наполовину опорожненной бутылки водки, и ее глаза горели напряженным светом, как лампы большого накала. Он не понял, светлые у нее глаза или темные. Черная челка свешивалась до бровей, лаково блестела. Она ему кого-то сильно напоминала.
– Ну, привет, – сказала брюнетка хрипло. – Посидим, значит? Еще пузырь закажем? И закуски. Ты сиди, – остановила она его властным жестом, когда он сунулся, так, для виду, в уже пустой карман, – я сама закажу. Я угощаю. Эй! Икры нам! Мясное ассорти! Хлеба, помидор! И пузырек, – выдохнула она в лицо подбежавшему, скалящемуся халдею, – «Гжелка» есть?..
– «Абсолютику» не желаете?.. – официант подмигнул. Ну конечно, они друзья. Девочка снимает здесь сливки. Работают вместе, прожженные.
Официант улизнул, и он опять воззрился на девицу. Сердце ныло от бередящего, зудящего, как надоедливый зуммер, воспоминания. Где он видел ее? Где? Она подперла лицо кулаками, облокотившись на стол. Рассматривала его, как если бы он был не Канат Ахметов, а редкий тропический жук.
– Рассматриваешь?.. Гляди, гляди. Осетрина бывает только первой свежести. – Он поморщился, губы его скривились. – Сто морщин, двести. А когда-то художник был красив.
– Вы… художник?..
Он качнулся вперед. Брюнетка возьмет им еще бутылку «Гжелки». Это изумительно. Это великолепно. Это так замечательно, что ни в сказке сказать.
– Я – художник. – Он сложил губы в трубочку, будто посылая воздушный поцелуй. – Я великий художник. Ты меня не знаешь. Я был когда-то знаменит. Картины мои – в коллекциях… королевы английской… президентов всяких… князей, магнатов… черт знает у кого висят мои картины… так вышло, крошка, что я вот тут сижу, ты уж меня извини. – Он пьяно шмыгнул носом. – Так уж получилось. Не обессудь. С каждым бывает. С тобой вот тоже может случиться. А красоточка ты. – Он сильнее сощурил глаза, они стали совсем как две щелки. – Где-то я тебя видел, не вспомню никак.
Черненькая киска смотрела на него так внимательно, что ему стало не по себе.
– А ты меня узнала, узнала!.. Да, мои фотографии раньше в журналах печатали… давно, двадцать лет назад… тебя, крошка, тогда еще и не свете не было… с какого ты года?..
– Ни с какого. Витя, мерси!.. Ставь все на стол и исчезни, – черненькая быстро протянула ошалевшему официанту зеленую купюру, – на тебе, провались… – Она снова уставилась на него. – Ну, давай посидим, – весело сказала. – Ты забавный. Ты очень, очень хороший. Я тебя приметила давно. Я увидела тебя первый раз с улицы. Из-за стекла. Ты всегда тут водку пьешь? Почему ты был знаменит, а сейчас не стал?
Он смотрел на черненькую, коротко стриженную девушку, и ему было радостно, как в детстве. Если бы не этот странный, комарино зудящий зуммер внутри него, под ребрами, в висках.
– Потому что, – назидательно сказал он, улыбнулся, и его желтый клык выставился хищно. – Ничего нет нового под солнцем, все люди то воспаряют, то низвергаются в пропасть. А потом все становится костями и прахом. Понятно, крошка?.. Где я тебя видел?! – почти крикнул он, и из-за соседних столиков на него оглянулись возмущенно.
Она налила водку в рюмки сама. Чокнулась с его рюмкой.
– Давай за встречу, художник. – Ее блестящий глаз глядел озорно, завлекательно. Может, она уже где-то выпила? – Я-то тебя вижу впервые.
Он поднял рюмку. Поднес к глазам. Посмотрел на нее сквозь водку, как сквозь алмаз.
– Вспомнил, – вышептал он довольно. – Все вспомнил. Ты нью-йоркская певичка Люба Башкирцева. У тебя был концерт в нью-йоркском порту, для докеров, на открытом воздухе, в тот день, когда я… ну, словом, когда я убегал… уплывал… я… бежал!.. – он махнул рукой. – Мне надо было убежать, вернуться… понимаешь, вернуться… а на самолет у меня денег не было… уже не было… и я…
Она смотрела на него, широко распахнув глаза.
– Ишь, реснички-то накрашенные, неподъемные какие… Хочешь, допьем это дело, доедим, – он взял пальцами из тарелки ломоть буженины, засунул в рот, – а то и не доедим, соберем в кулечек… и еще бутылочку возьмем, в ночь, про запас… и рванем ко мне?.. Ко мне в мастерскую… И я вспомню, расскажу тебе, когда там… когда я…