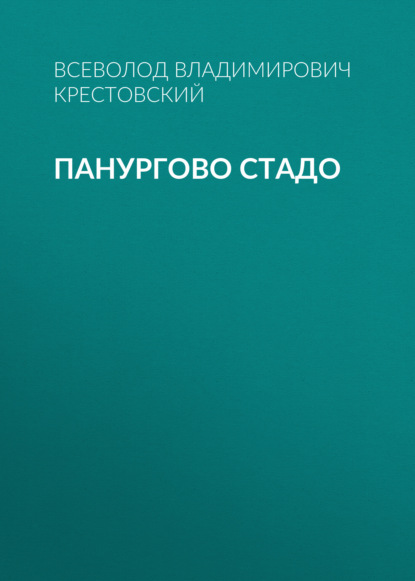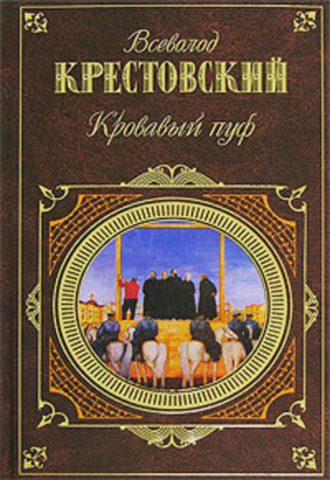
Полная версия
Панургово стадо
Кучка «публики», ожидавшая на паперти, понемногу прибавлялась. В середине стоял высокого роста господин, в синих очках и войлочной, нарочно смятой шляпе, из-под которой в беспорядке падали ему на плечи длинные, густые, курчавые и вдобавок нечесаные волосы. Клинообразная, темно-русая борода как нельзя более гармонировала с прической, и весь костюм его являл собою несколько странное смешение: поверх красной кумачовой рубахи-косоворотки на нем было надето драповое пальто, сшитое некогда с очевидной претензией на моду; широкие триковые панталоны, покроем à la zouave [26] небрежно засунуты в голенища смазных сапог; в руке его красовалась толстая суковатая дубинка, из породы тех, которые выделываются в городе Козьмодемьянске.
Подле него, как моська перед слоном, вертелся, юлил, хлопотал и суетился крошечный, подслеповатый блондинчик, с жидкими, слабыми волосенками и мизерной щепотью какой-то скудной растительности на подбородке. Эта маленькая тщедушная юла была то, что называется золотушный пискунок, и принадлежала к породе дохленьких. Пискунок состоял чем-то вроде добровольного адъютанта или ординарца при особе своего плечистого соседа в кумачовой рубахе и в разговорах относился к нему с приятельским почтением. Остальные члены этой кучки составляли народ, более или менее знакомый и между собою, и с двумя изображенными господами.
– Что ж это плохо собираются! – суетливо пищал дохленький блондинчик, то обращаясь к окружающим, то на цыпочках устремляя взгляд вдаль по улице. – Ай-ай, господа, как же это так!.. Наши еще не все налицо… Пожалуйста же, господа, смотрите, чтобы все так, как условлено!.. Господа!.. господа! после панихиды – чур! не расходиться!.. Пожалуйста, каждый из вас пустите в публике слух, чтобы по окончании все сюда, на паперть: Ардальон Михайлович слово будет говорить.
При этом блондинчик самодовольно, однако не без почтительности, искоса бросил взгляд на кумачовую рубашку.
– А какое слово-то! – на ухо обратился он к одному из кучки. – То есть я тебе скажу – огонь!.. огонь!.. Экая голова-то!..
– Анцыфров! – окликнул Ардальон Михайлович своего адъютантика, который тотчас же подбежал к нему с таким видом, что необыкновенно живо напомнил собою кобелька, виляющего закорюченным хвостиком. – Ты что это, болван, болтаешь-то там!.. Не можешь на полчаса подержать за зубами!..
– А… я, Ардальон Михайлович… ведь свои же – надобно, чтобы знали… да я, впрочем, что же… я, в сущности, ничего, – оправдывался дохленький.
– Ну, то-то!.. Ты гляди у меня!.. А вот что скверно, – значительно понизил он тон, – серого-то народу почти совсем нет, чуек-то этих мало.
– Мало, Ардальоша, мало! – пожав плечами, вздохнул Анцыфров. – А для виду-то, для представительности не мешало бы…
– Так ты чего же спал-то! Ведь говорил вчера, чтобы по кабакам, да по харчевням…
– Да я, Ардальоша… упрекнуть ты меня, кажись, не можешь! Я не то что по харчевням, я и по базару пошатался.
– Пошатался! – передразнил его собеседник. – Слизняк ты, братец, вот что! – добавил он ему с весьма откровенным и презрительным пренебрежением.
Анцыфров как-то неловко помялся да искательно ухмыльнулся в ответ на эту выходку, но не возразил ни слова.
В эту минуту мимо церкви проходили два какие-то зипуна.
Ординарчик, словно пущенный волчок, мигом сбежал к ним со ступеней и остановил обоих.
– Братцы! – обратился он к ним. – Зайдите в церковь!.. Помолимтесь вместе!
Те удивленно оглядели его с головы до ног.
– Помолимтесь!.. за своих… за наших, за родных братьев! – продолжал меж тем дохленький.
– За каких те братьев? – спросил его зипун.
– Слыхали про Высокие Снежки? как в Снежках генералы в мужиков стреляли? Так вот, по убитым теперь панихиду правим… Зайдите, братцы!
– Панафиду?.. Нашто же это панафиду?
– Как на что! Ведь Христовы мученики, братцы! Помолимтесь за упокой… Ведь это братья ваши!
– Да мы не снежковские – мы с Чурилова погоста, – возразил другой зипун. – Нам-то что!
– Все равно, братцы!.. Все мы – христиане, все в Бога веруем… все по Христу-то ведь братья! – приставал меж тем блондинчик. – Сегодня генералы в снежковских стреляли, – завтра в вас стрелять будут, – это все равно!
– В на-ас? – недоумело ухмыльнулся мужик и снова оглядел с головы до ног Анцыфрова. – Что ты, шалый, что ли!.. Пойдем, Митряй; что толковать-то! – кивнул он своему спутнику. – Пусти, барин, недосуг нам.
И мужики прошли мимо ардальоновского ординарчика, который стоял словно несолоно похлебавши и наконец медленно стал подыматься на паперть.
– Вот, сам видишь! – как бы оправдываясь, тихо обратился он к Ардальону. – Нейдут, а отчего – черт их знает!
– Оттого, что ты дурак! – с неудовольствием перекосив брови, буркнул тот ему под нос.
– Ну вот, и всегда так… – обиженно пробормотал в сторону ординарчик, разведя руками.
Подошло еще несколько публики и между прочим две-три молодые дамы, да три-четыре девицы, из которых половина была с остриженными волосами – прическа, начинавшая в то время сильно входить в употребление в кружках известного рода.
– Здравствуйте, Анцыфров!.. Полояров, здравствуйте! – обратилась одна из них к ординарцу и его патрону, протягивая обоим руку.
Полояров оглядел ее, но не поклонился и руки не подал.
– Полояров! я вам кланяюсь, я вам руку протягиваю, – не видите, что ли? Или не узнали? – широко улыбаясь, заметила ему девица.
– Нет, вижу-с и узнал-с, – возразил Ардальон. – А руки не подаю – потому терпеть не могу этих барских замашек! На кой вы черт перчатки-то напялили? аристократизмом, что ли, поразить нас вздумали? ась?
Девушка немножко сконфузилась и торопливо сдернула свои свеженькие перчатки.
– Ну, вот теперь статья иная! Давайте сюда вашу лапу! – менторски-одобрительным тоном похвалил Ардальон и крепко потряс руку девушки.
– Да что ж это богомокрицы эти нейдут панихиду козлогласовать-то нам! – обратился он к окружающим, видимо желая порисоваться и щегольнуть пикантностью своей последней фразы, впрочем целиком почерпнутой из «Колокола». – Анцыфров! слетай за ними, пригласи, что пора, мол! – публика собралась и ждет спектакля.
Анцыфров полетел за священниками.
– Послушайте, Полояров, я сейчас заглянула в церковь, – обратилась к Ардальону та самая девица, которой он сделал выговор по поводу перчаток, – вы говорили вчера, что в этом примет участие народ – там почти никого нет из мужиков?
– Ну, так что же-с? – хмуро повел брови Полояров.
– Да ведь это… как хотите – совсем не то выходит.
– А по-вашему, что же?.. Вы-то, собственно, чего же хотели бы?
– Да я… я было думала… я уверена была, что все это дело народное.
– Вы, Лубянская, все глупости думаете!.. Когда я вас отучу от этого?.. Народ! Да разве мы с вами не народ?
– Но я думала, что мужики…
– «Мужики! Мужики!» – что такое «мужики»?.. Мужики – это вздор! Никаких тут мужиков нам и не надобно. Главная штука в том, – значительно понизил он голос, наклоняясь к лицу молодой девушки, – чтобы демонстрацию сделать… демонстрацию правительству, – поймите вы это, сахарная голова!
– Но если бы с нами и мужики…
– Если бы да ежели бы, так и люди-то не жили бы! – перебил ее Полояров. – Слыхали вы про это аль нет? Однако пойдемте в церковь – вон уж и козлы спешат, рубли себе чуют, – прибавил он, кивнув на приближавшегося священника с дьяконом, вслед за которыми, перепрыгивая по грязи с камушка на камушек, поспешала и маленькая фигурка Анцыфрова.
И вот, минут через пять после этого, священник с дьяконом вышли из алтаря, в черных ризах, и начали панихиду. На двух клиросах помещались хоры, составившиеся тут же из публики. На правом пели преимущественно взрослые воспитанники семинарии; на левом – кое-кто из учителей, офицеров, гимназистов, чиновников. Между присутствующими виднелось несколько чуек, сермяг и полушубков, но очень и очень немного, да и то в число их же приходилось включить и тех трех-четырех господ, которые явились сюда переодетыми в чужие костюмы.
– Эх, черт возьми! досадно! – бурчал себе сквозь зубы Ардальон, поглядывая на это скудное количество субъектов, долженствовавших изображать собою простой «народ». – Ослы! илоты!.. Ничем не прошибешь их!.. Рассея –матушка!
«Но… ничего: благо, и эти-то есть! – успокоительно подумал он. – Все-таки отпишем, что церковь-де была полна народом, – а там поди, поверяй нас!.. Штука-то все-таки сделана, и штука хорошая!»
Мерцание восковых свечек в руках присутствующих как-то странно мешалось с яркими лучами солнца, которые врывались за решетку церковных окон и радужно позлащали ароматные струи ладана.
Хвалынцев с Устиновым стояли, прислонясь к стене, а рядом с ними стала старушка и молоденькая девушка, при появлении которых учитель молча отвесил почтительный поклон. Обе были одеты в черное. Лицо этой девушки невольно остановило на себе внимание Хвалынцева. Нельзя сказать, чтобы оно кидалось в глаза своей красотой, – далеко нет; но в нем было нечто такое, что всегда заставило бы человека мыслящего, психолога, поэта, художника, из тысячи женских лиц остановить внимание именно на этом. Живая душа в нем сказывалась, честная мысль сквозилась, хороший человек чувствовался – человек, который не продаст, не выдаст, который если полюбит, так уж хорошо полюбит – всею волею, всею мыслью, всем желанием своим; человек, который смотрит прямо в глаза людям, не задумывается отрезать им напрямик горькую правду, и сам способен столь же твердо выслушать от людей истину еще горчайшую. Знакомы ли вам тонкие, нежные черты белокурых женских лиц, в которых, несмотря на эту тонкость и в высшей степени женственную нежность, чуется здоровая мысль, характер твердый, настойчивый и сила воли энергическая? Таково именно было лицо этой молодой девушки. На вид ей казалось лет семнадцать, но она была старше: ей пошел уже двадцатый год. При небольшом росте, маленькая изящная фигурка ее отличалась гибкою стройностью. Лицо было бледно, с легким, чуть-чуть сквозящимся румянцем; на висках тонкие жилки голубели; но что придавало этому лицу особенную прелесть – это бархатно-густые, темные, длинные ресницы над выразительно-большими глазами. Когда она задумчиво опускала веки, ресницы ее кидали тень, придавая какую-то таинственную глубину взору.
Стояла эта девушка, облитая веселым солнцем, которое удивительно золотило ее светло-русые волосы, – стояла тихо, благоговейно, и на лице у нее чуть заметно мелькал оттенок мысли и чувства горького, грустного: она хорошо знала, по ком правится эта панихида… Лицо ее спутницы-старушки тоже было честное и доброе.
Хвалынцев во время службы несколько раз останавливал глаза на обоих; но лицо девушки тянуло к себе его взоры более и чаще. Раза два их взоры скрестились и встретились – и чувствовал он, что выходит это невольно, как-то само собою.
Девица Лубянская и с нею две ее стриженые подруги стояли рядом с Полояровым и о чем-то все хихикали да перешептывались между собою. Немало утешал их дохленький Анцыфров, который все время старался корчить умильные гримасы, так, чтобы это выходило посмешнее, и представлялся усердно молящимся человеком: он то охал и вздыхал, то потрясал головою, то бил себя кулаками в грудь, то простирался ниц и вообще желал щегольнуть перед соседними гимназистами и барышнями своим независимым отношением к делу религии и церковной службы. Поэтому, проделывая все свои штуки, он после каждого пассажика искал себе глазами по сторонам одобрительных, поощряющих взглядов, и в таковых недостатка не было.
Полояров тоже ощутил в себе некоторое присутствие веселого настроения и все задувал свечку соседки своей Лубянской, а та поминутно ее зажигала и, наконец, в отместку стала задувать и его свечку. Вообще, в этой группе то и дело раздавалось смешливое фырканье и довольно громкие, бесцеремонные разговоры. Несколько впереди их стоял частный пристав, катавшийся все время мимо церкви на своих вяточках и теперь нашедший нужным появиться в храм – «на случай могущих произойти беспорядков». У дверей торчали три-четыре полицейских солдата и помощник пристава, которые вошли сюда вместе со своим принципалом.
Частный уже неоднократно оборачивал взоры на хихикавшую группу, с выражением внушительной строгости, но его юпитеровские взгляды возбуждали еще более веселость компании. А эта веселость поддерживалась немало также и тем обстоятельством, что несколько школьников сбрызгивали капли талого воска на спину не догадывающегося об этом блюстителя порядка.
– Эх, господа гимназисты стоят-то позади его, – сказал Полояров тихо, но так, что близ стоявшие мальчики очень хорошо могли его слышать. – Что бы догадаться кому – стать бы эдак на коленки да словно бы невзначай и поджечь пальтишко, – вот бы комедия вышла!
Такая мысль не могла не прийтись по вкусу гимназистам, и потому исполнение ее нимало не замедлилось. Один шустрый мальчуган пробрался как раз к частному, стал совсем близко его и – точь-в-точь по рецепту Полоярова – опустясь с земным поклоном на колени, приблизил свечу свою к краю форменного пальто пристава. Толстый драп тотчас же задымился и распространил вокруг себя запах смрадной гари.
Частный озабоченно и недоумело поднял голову и, внюхиваясь, поводил впереди себя носом. Гимназисты фыркали в кулак, а компания Полоярова корчила серьезные мины и кусала губы, чтобы вконец не расхохотаться.
Вдруг подожженный частный обернулся и поймал школьника на месте: тотчас же он его цап за руку и кивнул своему помощнику. Но так как помощник не замечал начальничьего кивка, то частный самолично повел мальчугана из церкви.
Перетрусивший гимназист побледнел и упираючись забормотал какие-то извинения.
Двое из учителей, вместе с товарищами мальчугана, да кое с кем из публики засуетились.
– Господа!.. господа! – захлопотал и забегал маленький Анцыфров. – Полиция… полиция делает беспорядки… полиция первая, которая нарушает!.. Это наконец черт знает что!.. Этого нельзя позволить… Это самоуправство… Это возмутительно!..
В церкви поднялось заметное движение. Священник несколько раз оборачивался на публику, но тем не менее продолжал службу. Начинался уже некоторый скандал. Полояров стоял в стороне и с миной, которая красноречиво выражала все его великое, душевное негодование на полицейское самоуправство, молча и не двигаясь с места, наблюдал всю эту сцену – только рука его энергичнее сжимала суковатую палицу.
– Полояров!.. Полояров! – шептала Лубянская, дергая за рукав своего соседа. – Послушайте, ведь ему, пожалуй, плохо будет, – надо заступиться.
– Заступятся! – равнодушно, но с уверенностью ответил Ардальон Михайлович.
– Пойдемте вместе… все пойдемте… отнимемте его!
– Отнимут и без нас.
– Но глядите: его уже взяли полицейские… его уводят!
Действительно, двое городовых, поспешившие наконец на призыв частного, подхватили мальчугана за руки и всем своим наличным полицейским составом повели его вон из церкви, несмотря на осаждавшую их публику. Значительная кучка этой публики пошла вместе с ними считаться на воздух с частным приставом и выручать пойманного школьника.
– Полояров, подите и вы! Надо, чтобы вы заступились, – приставала меж тем Лубянская.
– Я-то? – отозвался Ардальон с тою снисходительною усмешкою, какою взрослые улыбаются маленьким детям. – Вы, Лубянская, говорю я вам, вечно одни только глупости болтаете! Ну черта ли я заступлюсь за него, коли там и без меня довольно! Мой голос пригодится еще сегодня же для более серьезного и полезного дела – сами знаете; так черта ли мне в пустяки путаться!
– Но что же теперь будет с ним, с бедненьким?
– Что?.. А ничего больше, что выпорют маленько, да и вся недолга!
– Но ведь это ужасно!
– Чего-с ужасно? Порка-то? Ничего! Это ихнему брату даже полезно иногда бывает. Нас ведь тоже посекали, бывало, – это ничего!.. Оно, знаете ли, эдакое спартанское воспитание, пожалуй, и не вредит: для будущего годится, потому – мальчишка после этого, гляди, озлобится больше, а это хорошо – злоба-то!
– Но ведь может быть и хуже: его могут исключить из гимназии.
– Ну и исключат – так что же? Эко горе!.. Коли есть башка на плечах, то и без гимназии пробьет себе путь, а нет башки – туда и дорога!
Между тем двое учителей да кое-кто из публики частью угрозами, частью просьбами и убеждениями успели-таки отратовать мальчугана у полиции и с торжеством привели его обратно в церковь.
Движение, возбужденное всем этим происшествием, затихло, угомонилось, и присутствующие довольно благообразно достояли до конца панихиды. Многие явились в эту церковь с чистым, сердечным желанием помянуть убиенных, и между ними были Устинов с Хвалынцевым, да та молодая девушка со старушкой, которые стояли рядом с ними. Многие пришли так себе, ни для чего, лишь бы поболтаться где-нибудь от безделья, подобно тому, как они идут в маскарад, или останавливаются поглазеть перед любой уличной сценой; многие прискакали для заявления модного либерализма; но чуть ли не большая часть пожаловала сюда с целями совсем посторонними, ради одной демонстрации, которую Полояров с Анцыфровым почитали в настоящих обстоятельствах делом самой первой необходимости.
Внимание молодой соседки Хвалынцева было слишком исключительно и серьезно приковано к церковной службе, так что она мало обратила его на скандальчик, происшедший по поводу подожженного пальто частного пристава.
Между тем пропели вечную память. Священник удалился в алтарь разоблачаться, а к соседке Хвалынцева, самым галантным образом, вдруг подлетел прелестный Анатоль де-Воляй и развязно раскланялся.
– Как, и вы тоже здесь? – подняла на него девушка свои непритворно изумленные взоры.
– А почему же бы нет? – отчасти самодовольно порисовался Анатоль.
– Да что вам здесь делать, monsieur де-Воляй.
– Mais, mademoiselle… mes simpaties… mes convictions [27], – замялся чуточку правовед.
– Et monsieur a aussi des convictions? [28] – слегка улыбнулась девушка.
– Я человек своего поколения, – пожал плечами Анатоль, несколько сконфузясь от столь откровенного вопроса.
– A monsieur Шписс!.. ведь вы с ним, что называется, les insèparables… [29] Его тоже привлекли сюда симпатии и убеждения? – продолжала она все с той же легкой улыбкой, замечая, что ее вопросы начинают коробить прелестного правоведа.
– Шписс – сам по себе! – процедил тот сквозь зубы.
– По своей особой части, значит.
– То есть, как это по особой?.. Я знаю Шписса за порядочного человека, – вступился де-Воляй за своего приятеля.
– Oh, oui! un homme parfaitement comme il faut! [30] Я в этом никогда не сомневалась, – подтвердила девушка. – Ну, а на обеде вы будете сегодня?
– Человеку сродно питать себя – заботиться о стомах, так сказать, – попытался Анатоль вильнуть в сторону.
– Нет, я спрашиваю про клуб – на обеде в клубе?
– Буду, – нехотя отвечал он, свернув глаза куда-то в пространство.
– И тоже par la conviction? [31] – прищурясь, улыбнулась девушка.
– Н-нет, далеко не так… по… по… обязанности… ma position [32]… это, как хотите, обязывает… Не могу же я! – неловко оправдывался вконец сконфуженный Анатоль, явно ища случая, как бы поскорее удрать отсюда, и проклиная себя внутренне за то, что дернула же его нелегкая подойти «к этой пьявке». – Mais… cependant il est temps de partir… Bonjour, mademoiselle! Je vous salue, madame! [33] – торопливо откланялся он девушке и старушке и, спешными шажками, поскорей удрал вон из церкви, кивнув за собою по пути и черненькому Шписсу.
– Однако, высекли же вы его! – обратился к девушке Устинов.
– Ничего, тем вкуснее пообедает, – отвечала она и, протянув учителю свою маленькую изящную ручку, направилась к выходу.
– Кто это? – почтительным полушепотом спросил вслед ей Хвалынцев.
– Татьяна Николаевна Стрешнева, а старушка – тетка ее, – пояснил Устинов.
– Какое у нее славное лицо! – как бы про себя заметил студент, не отрывая глаз от стройной фигурки удалявшейся девушки.
– Одно слово: хороший человек она – вот что я скажу тебе, мой ангел! – заключил Устинов, и приятели тоже удалились.
* * *На паперти, волнуясь до известной степени, стояла довольно значительная кучка публики, посреди которой, опершись на суковатую палицу, возвышалась фигура Полоярова. Пальто его было распахнуто и широко раскрывало на груди красную рубашку, шляпа надвинута на глаза, и вся физиономия, вся поза Ардальона выражала грозную решимость гражданского мужества.
Плюгавенький Анцыфров шнырял туда и сюда, протискиваясь между локтями и боками собравшейся публики, и все убеждал не расходиться.
Частного пристава уже не было. Он еще раньше поскакал к полицмейстеру.
Полояров выжидал минуту, когда и помощник отвернулся куда-то в сторону, оставя паперть в ведении только трех городовых.
– Зачем здесь полиция?! Долой полицию! – возвысил голос Ардальон, грозно стукнув палицей о каменный помост паперти. – Долой сбиров! к черту алгвазилов!
– Долой!.. долой полицию! к черту! Вон! – довольно дружно подхватили в кучке, но городовые продолжали себе стоять как ни в чем не бывало, словно бы и не понимая, что эти возгласы, в некотором роде, до них касаются, и только время от времени флегматично замечали близстоявшим, чтобы те расходились – «потому – нэможно! начальство нэ велыть!».
– Господа! – снова возвысил голос Полояров. – Господа! Я обращаюсь ко всем вам, ко всем честным людям, у которых наше рабство не вышибло еще совести! Выслушайте меня, господа!.. Немецко-татарский деспотизм петербургского царизма дошел до maximum своего давления. Дальше уже терпеть нельзя… невозможно – или надо задохнуться!
– Молодец! Не трусит!.. Вот это так! По-нашему! Открыто, гласно! – одобрительно отозвались ему в толпе слушателей.
Полояров с самодовольною гордостью обвел всех глазами и подбодрился еще более.
– Я говорю, господа, о факте… о тысяче вопиющих фактов, – начал было он снова, как вдруг, в эту самую минуту, лихо подкатила к паперти полицмейстерская пара впристяжку – и с пролетки спрыгнул экс-гусар Гнут вместе с жандармским адъютантом. Гремя по ступенькам своими саблями, спешно взбежали они на паперть и… красноречие Полоярова вдруг куда-то испарилось. Сам Полояров даже как будто стал немножко поменее ростом, и пальто его тоже как-то вдруг само собою застегнулось, сокрыв под собою красный кумач рубашки.
– Господа! покорнейше прошу расходиться! Этого нельзя-с! Это беспорядок! – резко авторитетным тоном закричал полицмейстер, направляясь прямо в толпу.
В кучке загалдели, задвигались, загомонились… Кто-то закричал по-петушиному, несколько человек свистнули и зашикали, многие рассмеялись, но в этом хохоте слышна была выделанная натяжка, нечто неискреннее и весьма принужденное.
Полицмейстер еще резче и строже повторил свой внушительный возглас. Значительная часть публики нерешительно и медленно стала расходиться.
– Господа!.. Не поддавайтесь!.. Не поддавайтесь… – то там, то здесь, позади других, подуськивал да подшептывал Анцыфров, стараясь, однако же, не быть замеченным.
В это время совершенно случайно проходил по улице взвод Инфляндманландского пехотного полка. Но стоявшей кучке не была известна эта случайность. Кто-то крикнул «войско идет!» – и это слово как-то жутко подействовало на многих: вскинули глаза вдоль улицы и, действительно, увидели несколько штыков. Анцыфров внимательно стал отыскивать глазами своего патрона и друга, но друг его, Полояров, неизвестно куда успел уже исчезнуть.
Через несколько минут церковная паперть, без всяких особых понуждений, уже очистилась, и полицмейстер с адъютантами укатили.
VIII
Генеральное кормление с музыкой и проч.
Когда публика шла из церкви, к подъезду клуба подкатывали первые экипажи. Съезд только что начинался. Костюмированный швейцар, в чулках и треуголке, надетой по-генеральски, отдавал входящим честь своей булавою. Лестница была покрыта парадным красным сукном и уставлена цветами. Прислуга оканчивала последние приготовления. Метрдотель Кирилла, гладко выбритый и пузатый, сиял самодовольной гордостью и чувством сознания собственной важности и достоинства. Он индийским петухом прохаживался по всем комнатам в своем белом жилете «при цепочке», в белом галстуке и в белых нитяных перчатках, а два лакея следовали за ним сзади и на раскаленную плитку поливали амбре, дабы распространить повсюду подобающее благоухание. Дежурный старшина и распорядители обеда были все налицо и важно совещались около стола с hors-d’oeuvres [34]. Музыканты на одной стороне хор настраивали свои инструменты, а в газетной – советник губернского правления г. Богоявисенский громко читал по бумажке свой будущий спич, который через час он должен будет произнести наизусть, по внезапному, так сказать, вдохновению и от полноты сердца. Теперь же наедине советник делал «последнюю репетичку». Хоры, противоположные той стороне, где поместились музыканты, начали понемногу наполняться дамами, между которыми были исключительно сливки да сметана славнобубенского mond’a [35]. Все взоры, надежды и ожидания славнобубенских матрон, сильфид и фей, и Диан, и весталок стремились к нему, к ожидаемому гостю, к интересному и блистательному герою этого празднества. Но пока – матроны и весталки созерцали только большие столы, составленные покоем (П), на которых сверкал граненый хрусталь, зеленели ветки цветущих камелий и возвышались серебряные вазы, пирамидки да корзинки с конфектами и фруктами, в ожидании коих некоторые лакомые матроны нарочно понадевали платья с карманами более глубокими.