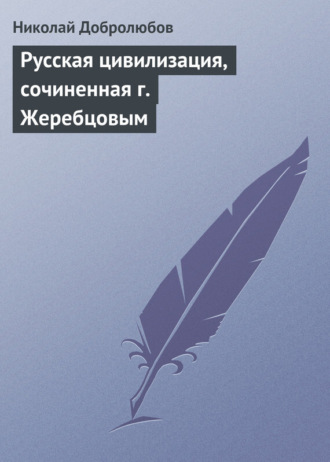 полная версия
полная версияРусская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым

Николай Александрович Добролюбов
Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым
(Efesai sur l'histoire de la civilisation en Russie, par Nicolas de Gerebtzoff, Paris, 1858. Два тома)
Луна обыкновенно делается в Гамбурге, и прескверно делается.
Гоголь («Записки сумасшедшего»)Статья первая
Сочинение г. Жеребцова об истории цивилизации в России представляет собою явление весьма замечательное. Оно назначено автором в руководство иностранцам, которые желали бы иметь истинное и полное понятие о России – об ее истории, нравах, просвещении, законодательстве, вообще о том, как наше отечество развивалось и какой степени достигло в своем развитии. Все это почтенный автор старается объяснить Европе в двух толстых томах (1200 страниц) своего сочинения. Такой объем необходим был потому, что г. Жеребцов обращает речь свою к людям, которых невежество относительно России до того велико, что с ними нельзя ограничиться легким очерком, а надобно прочесть им целый курс. В предисловии к своей книге г. Жеребцов говорит, что «в своих продолжительных путешествиях по всем частям Европы он был поражен тем неведением, какое там обнаруживает большая часть людей, даже образованных, относительно России, не только древней, но и новой». Для оправдания своего невежества европейцы говорили, что Россия слишком далеко от них находится, а книг для ее изучения у них нет. Есть только Гакстгаузен и Карамзин:{1} но Гакстгаузен неполон, а Карамзин слишком обширен; все же другие сочинения не внушают к себе доверия. «Я решился попытаться пополнить этот пробел», – говорит г. Жеребцов, и плодом этого решения был «Опыт об истории цивилизации в России».
Имея в виду наставление Европы, г. Жеребцов, естественно, должен был писать по-французски. «Но я не мог мыслить и чувствовать иначе, как по-русски, – замечает он, – и потому в стиле моем остался, может быть, отпечаток иностранного происхождения». Действительно, стиль г. Жеребцова недалеко ушел от стиля той дамы, которая писала о своей горничной: «J'ai la laissee sur la liberte, parce qu'elle a bien marchee derriere mes enfants» [1]. Но это, по нашему мнению, последнее дело в книге: французы на этот счет очень снисходительны, как известно, – немцы, пожалуй, и не заметят, а англичане если и заметят, так не обратят внимания. Главное – было бы содержание любопытно. А как же не быть любопытным содержанию такой книги, как сочинение г. Жеребцова. Предмет его чрезвычайно интересен, в особенности для иностранцев, ничего не знающих о России. Объем его позволял автору коснуться всех сторон развития древней и новой Руси, систематически провести свои воззрения на русскую цивилизацию, представить в стройной картине то положение, в какое наконец приведено наше отечество в настоящее время непрерывным ходом своего исторического развития. Все это предметы чрезвычайно интересные, и иностранцы, не знающие автора, могли ожидать, что найдут в его книге вполне основательное и беспристрастное изложение всего, что касается судеб России, тем более что сочинение г. Жеребцова является при обстоятельствах чрезвычайно благоприятных. Эти благоприятные обстоятельства, по нашему мнению, состоят в следующем.
Во-первых – г. Жеребцов издает свой опыт в 1858 году, вскоре после восточной войны, парижского мира{2} и прочих обстоятельств, ожививших наши международные отношения и установивших у нас несколько новые отношения к Западу. Теперь прошло для нас время бестолкового, слепого подражания всему иностранному, прошло и время бесполезного, надутого хвастовства своими, будто бы исключительными, национальными достоинствами. Прошло и для иностранцев время надменного презрения ко всему русскому, равно как и то время, когда они боялись русского государства, как скопища диких варваров, готовых остановить всякий прогресс, преградить путь всякой живой идее. В восточной войне мы сходились с ними начистоту и под конец решились признаться в превосходстве их цивилизации, в том, что нам нужно многому еще учиться у них. И, как только кончилась война, мы и принялись за дело: тысячи народа хлынули за границу, внешняя торговля усилилась с понижением тарифа{3}, иностранцы явились к нам строить железные дороги{4}, от нас поехали молодые люди в иностранные университеты, в литературе явились целые периодические издания, посвященные переводам замечательнейших иностранных произведений{5}, в университетах предполагаются курсы общей литературы, английского и французского судопроизводства и пр. Рядом с этим – и в литературе и в жизни возвышаются голоса против злоупотреблений, издавна вошедших в наш быт, слышатся жалобы на нашу отсталость, апатию, преследуется и выставляется на общий позор наше домашнее зло. Такая минута, как нам кажется, чрезвычайно благоприятна для того, чтобы привлечь общее внимание и любопытство представлением полной и верной картины русского развития. Без ложного стыда, без робких обиняков, без пропусков и умолчаний мог автор говорить обо всем, что задерживало или ускоряло ход русского развития. Отбросив национальные предрассудки и ложнопатриотическую гордость, мог он признать все, чем обязана Россия другим народам и чего еще недостает ей в сравнении с ними. Он мог спокойно и беспристрастно оценить теперь те начала и идеи, которыми определялся ход русского развития, мог откровенно и с очевидною ясностью представить все обстоятельства, доведшие Россию до того состояния, в каком застала ее восточная война и которого неудобства во многих отношениях мы сами провозгласили открыто и громко. Такая задача давалась автору потребностями минуты, в которую он пишет, и надо признаться, что в эту именно минуту исполнение такой задачи было бы легче, чем когда-нибудь, и вместе с тем имело бы более значения, чем во всякое другое время.
Другое обстоятельство, благоприятствовавшее автору «Опыта истории цивилизации в России», – было то, что он писал свою книгу для Европы и издал в Европе: автор, пишущий о России в самой России, невольно поддается всегда чувству некоторого пристрастия в пользу того, что его окружает, что ему так близко и так с ним связано различными отношениями. По-видимому, наши слова несправедливы именно в настоящее время, когда вся литература наша не только не допускает сладеньких восхвалений, а, напротив, отличается жестокими обличениями всего дурного, что есть у нас. Но, несмотря на всю разительность этого факта, мы признаем решительно несомненным присутствие пристрастия к своему, родному, даже в обличительной нашей литературе последнего времени. Не говорим о лирических местах в самых мрачных произведениях; не говорим ни о героях добродетели, которых, как умеют, стараются выводить наши авторы, ни о счастливых развязках, в которых порок достойно наказывается… Упомянем только об одном, весьма характеристическом обстоятельстве: до сих пор все литературные произведения, написанные в так называемом отрицательном духе, имели характер частный и касались большею частию мелочей. Видно в этих произведениях, что у автора накопилось много желчи, что он многое видел и многое мог бы порассказать. Но как только берется он за перо, чтобы поведать обществу результаты своих дум и опытов, дух родины начинает невидимо носиться над ним, сердце его невольно смягчается, и он ограничивается пустячками, как бы опасаясь тревожить раны более глубокие, которых боль должна же отозваться на нем самом. Таким образом, самое порицание часто парализуется у нас, вследствие влияния чувства совершенно противоположного. Напротив того, дифирамбы наши нередко доходят до чудовищных размеров. Беспрестанно читаешь в русских книгах и даже в некоторых журналах: то «белорусский край щедро наделен всеми дарами природы»;{6} то «в русских деревнях между крестьянками сплошь да рядом встретишь таких красавиц, какие и в Италии чрезвычайно редки»; то «довольные сердца русского народа так сильно бьются, что бой их заглушает звуки колоколов московских»{7}. И все это кажется так естественным, так обыкновенным, что никто и не замечает оригинальности подобных выходок. Зато, напротив, на человека, который решится сказать, что, например, возможно в России существование значительных особ, смешивающих собственные выгоды с казенным интересом, – на такого человека тотчас восстанут его друзья и недруги целым хором: ты, дескать, честь отечества пятнаешь. Бедный автор уж и совсем сконфузится. Иной раз и сказал бы что-нибудь, и именно из желания добра сказал бы, – да испугается: а что, дескать, если это вот такому-то моему приятелю не понравится или вот такой-то благодетель за это рассердится!.. И пропала для общества полезная правда доброго человека, связанного условиями и приличиями этого же самого общества.
Совсем не в таком положении находится автор, пишущий о России в отдалении от своего отечества. Его взгляд может быть шире, глубже и самостоятельнее. На мелочи он не станет обращать внимания, потому что издали и не видны мелочи. Возвысившись над всеми личностями, он тем свободнее и беспристрастнее может разобрать самую сущность дела. Избавленный от разных мелочных житейских отношений и помех, часто задерживающих не только дело, но и слово, – он может высказывать свои мнения и взгляды прямо, откровенно, не стесняясь никакими личными отношениями. Положение поистине завидное и как нельзя более благоприятное для писателя, желающего принести действительную пользу!..
Есть еще одна сторона, благоприятно располагающая будущих читателей к автору книги о России, выходящей в настоящее время в Европе. Это – свойство самой публики, для которой книга назначается. Предполагается обыкновенно, что объемистое сочинение о России возьмет в руки в Европе человек образованный, имеющий некоторые гражданские убеждения и хотя несколько определенный образ мыслей насчет разных общественных отношений. Для таких читателей нельзя сочинить книги вроде «России» г. Булгарина;{8} им надобно дать что-нибудь получше, и, наверное, автор позаботился об этом… Подобные соображения заранее подымают автора в глазах читателя, подобно тому как стечение образованной публики в аудитории заранее внушает нам некоторое уважение к профессору, решающемуся читать пред такими слушателями… «Если он осмелится взойти на кафедру с тем, чтобы говорить им вздор, то уж это будет крайнее бесстыдство или самодовольное тупоумие», – думаем мы и по добродушию, свойственному вообще человеческой природе, никак не хотим предположить ни бесстыдства, ни тупоумия, а всё ждем истинного достоинства, пока горьким опытом не убедимся в противном.
Все нами сказанное сводится к следующим мыслям. Предмет, избранный г. Жеребцовым, важен и интересен сам по себе как для иностранцев, так и для самих русских. Обстоятельства, при которых является книга г. Жеребцова, придают ей еще более интереса, возбуждая любопытство читателей и внушая им уже предварительно доверие к автору. Стоит ему честно воспользоваться своим положением, сделать то, что могут от него ожидать и требовать, и успех книги несомненен. Успеха ее, без всякого сомнения, автор желал и, конечно, для приобретения его делал что мог. Что же именно сделал он и как воспользовался своим положением, это мы и намерены теперь представить нашим читателям.
Из предисловия г. Жеребцова мы уже видим, что сочинение его вызвано патриотическим желанием вразумить иностранцев относительно России. Вследствие этого «Опыт» г. Жеребцова имеет некоторые особенности, сообразные с его специальною целью. «Я должен был приноровляться к потребностям моих читателей, – говорит он, – и потому я опускал некоторые подробности, интересные, может быть, для моих соотечественников, но скучные для других, и распространялся иногда о вещах, очень хорошо известных в России, но более или менее новых для иностранцев». Такой образ действия совершенно понятен и естествен; но, прочитывая сочинение г. Жеребцова, мы заметили, что не одна степень известности или неизвестности фактов руководила им в его рассказе. Мы заметили у него выбор предметов, подсказанный ему, без сомнения, патриотическими его чувствованиями: преимущественно останавливается г. Жеребцов на тех явлениях нашей истории и жизни, которые ему кажутся хорошими; темные же стороны он большею частию, особенно в древней Руси, указывает очень бегло или даже вовсе о них умалчивает. По нашему мнению, это уже совершенно напрасно, и даже патриотизм мало может извинить автора за представление фактов не совсем в том свете, в каком бы следовало.
Впрочем, едва ли следует ошибки подобного рода складывать на патриотизм. Слово это многими злоупотребляется благодаря тому, что значение его (как и значение многих слов, употребляемых у нас в печати) не совсем определено. Мы не думаем, что далеко уклонимся от предмета нашего разбора, если, пользуясь случаем, сделаем теперь несколько замечаний о том, какой смысл, по нашему мнению, имеет настоящий патриотизм и что такое часто прикрывается его именем. Патриотизм в своем чистом смысле, как одно из видовых проявлений любви человека к человечеству, вполне естествен и законен. Как чувство темное, бессознательное, он является вместе с первым развитием понятий в ребенке, тотчас, как только он начинает отличать самого себя от внешних предметов. Об этом детском патриотизме не стоит, конечно, говорить как о чем-то важном и прекрасном, но нельзя и не признать его значения в детском и отроческом периоде жизни человека. В первые годы жизни человек еще не умеет мыслить о предметах отвлеченных; тем менее могут быть ему доступны общие начала и вечные законы мировой жизни. В нем есть эгоизм, побуждающий его искать лучшего, и есть, как у всех животных из пород стадящихся, темный инстинкт, подсказывающий, что лучшее-то отыскивается не в одиночестве, не в себе самом, а в обществе других. Дальнейший опыт жизни с каждым днем все более подтверждает и проясняет эту темную догадку ребенка, и он начинает уже понимать связь собственного благосостояния с благосостоянием других. Сначала он предается стремлению овладевать чужим благосостоянием для самого себя и в этом находит удовольствие, которое будет продолжаться больше или меньше, смотря по тому, в какой мере окружающая обстановка будет благоприятствовать развитию в нем инстинктов хищной породы. Но при нормальном развитии ребенка эгоизм его недолго обращается на притеснение чужой личности и собственности в пользу своей особы. Скоро он почувствует, что, питая себя лишениями других, он опять становится одиноким, чуждым всему, как будто единственным существом особой породы, имеющим одно специальное назначение – поедать все окружающее. Сознание такого положения тяжело, потому что противно природным инстинктам человека, да и вообще животного. Оттого-то, по замечанию педагогов, эгоизм детей очень недолго остается в грубом виде, при котором нужно только удовлетворение личных, исключительно животных потребностей. Как скоро пробуждается мысль и начинает работать рассудок, и самый эгоизм принимает другое направление: для удовлетворения его делаются потребны симпатические отношения с другими. Потребность эта еще более развивается беспредельными услугами и помощью всякого рода, необходимо оказываемыми ребенку от старших. На них-то и обращается прежде всего то чувство любви, которое, естественно, находится в натуре каждого человека и которое в дальнейшем своем развитии должно обнять собой все человечество. Небольшой переход нужен отсюда, чтобы перенести ту же любовь и на те предметы, те привычки, понятия и т. п., которые принадлежат любимым людям. Отсюда и происходит та прелесть, которую сохраняют над многими до конца жизни —
Поля, холмы родные,Родного неба милый свет,Знакомые потоки,Златые игры первых лет,И первых лет уроки{9}.Порицать за это чувство нельзя и взрослого человека, если только он остается в пределах чувства и не принимается резонировать. Обнаруживать посягательство на мою субъективную жизнь никто не имеет права. Кто может упрекнуть меня за то, что во мне пробуждаются светлые воспоминания детства при виде стола, покрытого ярославской набивной скатертью, на котором стоит шипящий самовар, – или при звуках сентиментальной песни: «Выйду ль я на реченьку», с аккомпанементом гитары? Я могу быть смешон для вас, если эти предметы производят на меня более сильное впечатление, нежели какое бы следовало по вашему мнению; но даже и насмешка с вашей стороны будет негуманна в том случае, когда я скромно предаюсь своему субъективному настроению, никого не тревожа. Другое дело, если я начну навязываться другим с своими чувствами, начну требовать, чтобы все окружающие разделяли их. Тогда уже всякий имеет полное право осуждать меня и смеяться над моими фантазиями, потому что они получают объективное значение, подлежащее общему суду. Когда я предъявляю претензию, чтобы и другие чувствовали то, что я, тогда я признаю уже, следовательно, что предмет, возбудивший во мне те или другие чувства, действительно способен их возбуждать сам по себе, а не по случайным отношениям, исключительно для меня только имеющим значение. А признавая это, я уже выражаю мнение, с которым другие могут не согласиться и за которое могут признать меня идиотом. Если я захочу, например, чтобы другие непременно восхищались нелепой песней, приятной мне по воспоминаниям детства, то я обнаружу этим, что не признаю ее нелепости, а вижу в ней действительные достоинства. За это, разумеется, и признают меня человеком, не имеющим эстетического вкуса, – чего не могут сказать обо мне только на том основании, что мне лично бывает приятно слышать эту песню. У каждого человека, на какой бы степени развития ни стоял он, всегда остаются кое-какие привычки, пристрастия, воспоминания, от которых сердце его не может совершенно освободиться, хотя рассудком своим он и понимает их нелепость. Этот маленький разлад внутри человека неизбежен по слабости человеческой натуры, и на него не следует смотреть слишком строго, пока он не выражается во внешней деятельности человека. Но когда он обнаруживается с претензией на то, чтоб детские грезы и другими были принимаемы за истину, тогда его нужно изобличать и преследовать. И при этом изобличении мы уже имеем полнейшее право сказать, не обинуясь, что господин, выказавший подобные претензии, тупоумен, а самые претензии его вредны, так как в них заключается попытка привить и другим свое тупоумие.
Обращаясь теперь к тому, что обыкновенно разумеется у нас под именем патриотизма, мы можем приложить и к нему многое из того, что сказали вообще о впечатлениях детства. В первом своем проявлении патриотизм даже и не имеет другой формы, кроме пристрастия к полям, холмам родным, златым играм первых лет и пр. Но довольно скоро он формируется более определенным образом, заключая в себе все понятия исторические и гражданственные, какие только успевает приобрести ребенок. Патриотизм этот отличается, до известной поры, полною и безграничною преданностью всему своему, – будет ли это хорошее или дурное, все равно. Причина такого безразличия заключается в том, что дитя еще и не понимает хорошенько разницы между дурным и хорошим, потому что мало имеет или не имеет вовсе предметов для сравнения. Не имея понятия о других городах, как может ребенок изъявлять недовольство устройством своего города? Живя непосредственною жизнью, руководствуясь во всем единственно желанием расширить, сколько возможно, пределы собственного эгоизма, связавши его с эгоизмом других, – ребенок восхищается всем, что он может, в каком бы то ни было смысле, назвать своим. При дальнейшем развитии, когда взгляд его расширяется с приобретением новых понятий, начинается работа различения хороших и дурных сторон в предмете, прежде казавшемся вполне совершенным. Таким образом, переходя постепенно от одного к другому, человек отрешается от безусловного пристрастия и приобретает верный взгляд сначала на свое родное семейство, на свое село, свой уезд, потом на свою губернию, на другую, третью губернию, на столицу и т. д. В результате выходит наконец отрешение от предрассудков местности и увлечение только тем, что уже составляет общие народные или государственные черты. Но человек, нормальным образом развивающийся, не может остановиться и на этой степени выражения патриотизма. Он сознает, что его чувства к родине, при всей своей силе и живости, не имеют еще той разумной ясности, которая дается только изучением дела в связи со всеми однородными явлениями. Таким образом, от идеи своего народа и государства человек, не останавливающийся: в своем развитии, возвышается посредством изучения чужих народностей до идеи народа и государства вообще и, наконец, постигает отвлеченную идею человечества, так что в каждом человеке, представляющемся ему, видит прежде всего человека, а не немца, поляка, жида, русского и пр. На этой степени развития в человеке необходимо должно исчезнуть то, что было детского, мечтательного в его патриотизме, что возбуждало только ребяческие фантазии, несообразные с действительностью и здравым смыслом. Все исключительные предилекции [2], все утопические мечтания о высшем предназначении одной нации к тому-то, другой – к тому-то, все национальные перекоры о взаимных преимуществах – исчезают в мысли человека, правильно и вполне развившегося. Для него уже не существуют вопросы вроде: кичливый лях иль верный росс?{10} и пр. Германское или славянское племя будет выше в истории последующих веков? и т. п. Подобные выходки он уже считает фразерством и забавляется ими вроде того, как забавляемся мы, например, перекорами Москвы с Петербургом, возобновляемыми время от времени в нашей юной литературе. Но из этого теоретического равнодушия и безразличия к землячеству вовсе не нужно заключать, чтобы высшее развитие человека делало его неспособным к патриотизму. Напротив, оно только и может сделать человека настоящим, действительным патриотом, – и вот каким образом.
Получив понятие об общем, то есть о постоянных законах, по которым идет история народов, расширив свое миросозерцание до понимания общих нужд и потребностей человечества, образованный человек чувствует непременное желание перенести свои теоретические взгляды и убеждения в сферу практической деятельности. Но вдруг деятельности человека, равно как и его силы и самые желания, не могут простираться на весь мир одинаково, и потому он должен избрать себе какой-нибудь частный, ограниченный круг и в нем прилагать свои общие убеждения. Этот круг всего скорее, всего естественнее будет – отечество. Мы больше сроднились с ним, больше его знаем и вследствие того более ему сочувствуем. И сочувствие это вовсе не является в ущерб любви и уважению к другим народностям; нет, оно есть простое следствие ближайшего знакомства с одним, чем с другим. Мы читаем преспокойно в газетах, что в такой-то сшибке убито столько-то; но то же известие производит на нас сильнейшее впечатление, если нам знакомы некоторые из убитых; и оно же может повергнуть нас в глубокую горесть, ежели в числе убитых находится наш лучший друг. Мы горюем о нем, вовсе, однако же, не думая, что другие были хуже его и недостойны нашей горести. Если бы мы сошлись с ними, то, может быть, плакали бы о них еще больше; но судьба не свела нас с ними, а всех чужих покойников не оплачешь. То же самое и с патриотизмом: мы более сочувствуем своему отечеству, потому что более знаем его нужды, лучше можем судить о его положении, сильнее связаны с ним воспоминаниями общих интересов и стремлений и, наконец, – чувствуем себя более способными быть полезными для него, нежели для другой страны. Таким образом, в человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как желание трудиться на пользу своей страны, и происходит не от чего другого, как от желания делать добро, – сколько возможно больше и сколько возможно лучше. И потому-то никто не может упрекать замечательных деятелей, если они переносят свою деятельность из одной страны в другую, находя, что они могут быть там полезнее, нежели на своей родине. Джон Лоу осуществил свои финансовые теории во Франции{11}, Лафайет участвовал в американской войне{12}, Байрон сражался за греков: кто же упрекнет их за это в недостатке патриотизма? Очень естественно, что один искал себе среды, где бы было удобнее применить свои планы, другие поспешали туда, где было более опасности. Патриотизм живой, деятельный именно и отличается тем, что он исключает всякую международную вражду, и человек, одушевленный таким патриотизмом, готов трудиться для всего человечества, если только может быть ему полезен. Ограничение своей деятельности в пределах своей страны является у него вследствие сознания, что здесь именно его настоящее место, на котором он может быть наиболее полезен. Оттого-то настоящий патриот терпеть не может хвастливых и восторженных восклицаний о своем народе, оттого-то он смотрит презрительно на тех, которые стараются определить грани разъединения между племенами. Настоящий патриотизм как частное проявление любви к человечеству не уживается с неприязнью к отдельным народностям; а как проявление живое и деятельное он не терпит ни малейшего реторизма, всегда как-то напоминающего труп, над которым произносят надгробную речь. Понимая патриотизм таким образом, мы поймем, отчего он развивается с особенною силою в тех странах, где каждой личности представляется большая возможность приносить сознательно пользу обществу и участвовать в его предприятиях. Мы часто жалуемся, что у нас слабо развит патриотизм; это оттого, что деятельность массы отдельных лиц у нас почти совершенно разъединена с общим течением дел и, следовательно, круг интересов каждого необходимо мельчает. Скажите вашему извозчику, что мы завоевали Амур: он сначала даже и не поймет вас. Растолкуйте ему, какое значение имеет это для страны: он согласится с вами, но все-таки ваш рассказ не произведет на него сильного впечатления. Что ему, в самом деле, за надобность до Амура? Какое отношение к нему может иметь приамурский край? Его гораздо более занимает соображение о том, прибавите ли вы ему, сделавши конец, пятак серебра или заплатите по таксе… Но таково развитие патриотизма, например, в Англии, где общественные приобретения и неудачи принимаются массою с таким участием, как будто дело идет о личных интересах каждого. Там не бесплодно звучат слова об общем благе, о пользах страны, потому что и на самом деле каждый принимает участие в общественных интересах, понимая связь их с своими собственными. За общее там вступаются люди в том смысле, что не желают видеть присвоения кем-либо частицы чужого, то есть интересы всего вообще охраняются не иначе, как посредством охранения интересов каждого из всех. Естественно при этом, что каждый интересуется общими делами и что фраза о славе нации, о величии государства не увлекает там людей, если она несогласна с действительными их интересами. Зато и личные интересы не могут получить такого исключительного преобладания, чтобы прийти в полное разобщение с общими выгодами. Англичанин или американец, не крича о том, что его, например, служебная деятельность необходима для поддержания государства и для блага народа, – никогда, однако, не продаст своего служебного долга ради личной выгоды: это запрещается ему чувством его патриотизма. Совершенно противное тому, по рассказам путешественников, происходит, например, в Австрии, где обилие патриотических фраз не мешает еще большему обилию всякого рода преступлений против блага отечества. Это уже, во всяком случае, – не патриотизм, что бы ни говорили и что бы ни писали австрийские газеты. Настоящий патриотизм выше всех личных отношений и интересов и находится в теснейшей связи с любовью к человечеству. Образец проявления его можно указать, например, в англичанах, которые, едва только утих взрыв первого негодования на индийскую резню, принялись доказывать, что они сами виноваты, что нужно изменить систему управления в Индии, и, наконец, решились покончить с Ост-Индскою компанией{13}. Другой образец можно, пожалуй, видеть у североамериканцев, где высшие сановники живут почти в бедности, не смея и подумать истратить для себя хотя один грош из огромных общественных сумм, находящихся у них в руках, и где даже белый домик президента ничем не отличается от жилища гражданина среднего состояния. Вот это патриотизм!..









