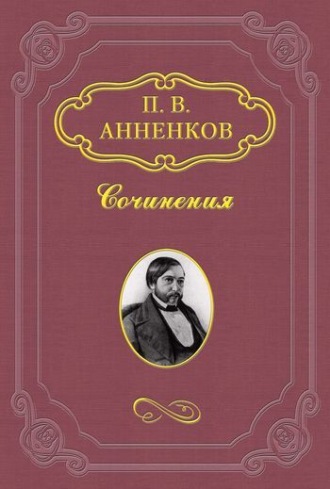 полная версия
полная версияПушкин в Александровскую эпоху
От полной нравственной пустоты лицей спасался, однако же, своим литературным направлением, о котором уже упомянули. Литературное направление лицея было плодом случая или порока в системе, предоставивших дело образования самим молодым людям, в нем собранным. Мы не говорим, чтобы все слышимое лицеистами от профессоров пропадало втуне для всех их, чтобы не было между ними умов, прилежно занятых усвоением научной программы, существовавшей в лицее: мы только представляем общую картину лицея, оставляя в стороне исключения, даже блестящие, которые там несомненно примешивались, как и везде, к основному правилу. А основным правилом было самообразование почти на всей воле учащихся. В последнее время некоторые из наших педагогов выражали мнение, что подобное самодельное образование толпы учеников и есть единственное условие их нравственного развития, а всякое влияние со стороны есть не более как помеха ему и школьная тирания; но по крайней мере эти педагоги все-таки имели в виду, что у каждого такого свободно развивающегося мальчика существует уже основной нравственный капитал в народной культуре, в определенных воззрениях того сословия, к которому он принадлежит[21]. Здесь и этого не было. Они принуждены были приискивать сами ответы на каждый вопрос, возникавший в их уме, и вот почему кинулись на библиотеку лицея, помещавшуюся в арке Царскосельского дворца. Она сделалась для его воспитанников единственным источником, из которого каждый почерпал свои вдохновения и мимолетные созерцания, сменявшиеся одни другими. Пушкин и в лицее сохранил страсть к чтению: мы уже знаем, что товарищи признавали за ним некоторое преимущество; он и тогда думал и говорил о таких предметах, какие им и в голову не приходили; он часто рассказывал им содержание своих чтений и не затруднялся при этом передавать им целые истории и романы, по большей части им вычитанные, которые он очень добродушно выдавал за плоды собственной фантазии. Важнее этих рассказов были, однако же, те решения важнейших вопросов религии, нравственности и жизни, до которых лицеисты доходили сообща, с помощью своего беспорядочного чтения и своего самородного философствования кружками или артелями. В программе записок Пушкина, приведенной нами, стоят слова: «философские мысли», а в другом месте – («Материалы для биографии А.С.П.», 1855) мы привели даже и проект его философской повести: «Фатама или разум человеческий», но сущности господствовавших между лицеистами учений и созерцаний мы все-таки хорошенько не знаем[22]. Мы можем только догадываться об этом по тому обстоятельству, что в лицее существовали на школьных скамейках французские сенсуалисты, немецкие мистики, деисты, атеисты и проч. Достоверно также, что вся эта работа молодой мысли на собственный, так сказать, кошт не укрепила ни одной головы и не составила никому твердого жизненного основания: все это было забыто и сброшено с себя вместе с мундиром. Приобретение положительных знаний и даже просто формальное, школьное учение, каково бы оно ни было, тем и важны, что они обладают свойством поддерживать слабые натуры и давать им содержание, возвышающее их над уровнем собственных их умственных и нравственных способностей. Бедные натуры лицея и покинули его бедными. Что касается до сильных и щедро одаренных личностей, которых там, кроме Пушкина, было тоже очень много, отсутствие правильного учебного курса и науки вообще показало им необходимость начать свое воспитание тотчас по окончании его в школе сызнова. По крайней мере, относительно Пушкина этот факт не подлежит уже ни малейшему сомнению. Добрая часть всей последующей его жизни занята была преимущественно переделкой и дополнением лицейского образования, и биография поэта, которая не укажет ход и моменты этого второго продолжительного обучения, всегда останется трудом неполным и слабым, какие бы любопытные анекдоты и подробности ни заключала в себе.
Нельзя также пропустить без внимания еще одного нравственного агента, который случайно достался на долю лицея и играл в нем значительную роль. Мы говорим об отечественной войне 1812 года и последующих заграничных компаниях наших. Народное чувство, волновавшее тогда Россию, сообщилось и всему населению только что возникшего училища, от мала до велика. Войска, проходившие через Царское Село, должны были слышать воинственные крики лицеистов, приветствовавших их из-за решетки своего сада. Вплоть до 1815 г. библиотека лицея полна была воспитанниками, узнававшими из газет и реляций судьбы и подвиги русских армий. Все, вычитанное там, составляло потом предмет долгих толков, соображений и гаданий молодежи, как между собой, так и с профессорами. Добрая часть классных часов уходила именно на эти толки. Благородным патриотическим одушевлением лицей только и связывался с общей жизнью своего народа, с которым никогда не соприкасался в других случаях и о котором не имел ни малейшего понятия.
Устройство лицея, о котором мы старались дать понятие здесь, и положение его в царских садах только и могли развить страсть к поэзии и литературе в той степени, какую мы замечаем у его первых питомцев. Можно сказать, что это было единственное серьезное их дело. Убегать в тень густых, непроницаемых аллей и находить невыразимую отраду во вдохновенном праздномыслии, как выразился впоследствии сам гениальный поэт наш, можно было только при исключительно счастливой обстановке, при не возмущаемом досуге и свободной голове, не отягченной никакими помыслами о долге и обязанностях. В этих именно условиях находились все поэты и литераторы лицея – Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский и проч.; но как ни благоприятны были показанные условия для развития фантазии, не видно, чтобы, кроме Пушкина, кто-либо воспользовался ими для приобретения надежного авторского материала. Все литературные занятия лицеистов, их журналы, произведения, опыты и замыслы разобраны теперь подробно, и, конечно, на основании их никоим образом нельзя было питать слишком радужных надежд на будущность молодых авторов, процветавших в этом рассаднике романсеров и эпиграмматистов. Со всем тем литературное направление, обнаружившееся в лицее, было приветствуемо, при своем появлении, торжественно и радостно весьма дельными и солидными умами той эпохи, как Карамзиным, например. Причиной такого общего одобрения и поощрения было, конечно, не свойство и обилие талантов, воспитанных лицеем, а само движение. Из заведения, целью которого было подготовление, как оно само заявляло, чиновников и деятелей на высшие посты в государстве, выходило поколение не только с литературным образованием, но и с намерением посвятить себя вопросам мысли, поэзии, искусства. Понятно, что явление должно было поразить круг знаменитых писателей эпохи, который оно обещало подкрепить новыми, свежими силами. Это отречение некоторой части молодежи от специального призвания, их ожидавшего, в пользу личного, тяжелого и притом скромного и плохо вознаграждаемого труда, казалось великим знамением эпохи. Легко было заключить, что такое решение не могло иначе явиться, как в силу глубоких нравственных требований, пробужденных в молодых умах, и никто не подозревал, что авторство лицея было произведением внутренней болезни, его поедавшей – именно умственной праздности. Слабые образчики этого творчества были совершенно заслонены первыми стихотворными попытками Пушкина, которые несомненно обнаруживали присутствие замечательного таланта. Чем далее шел Пушкин, тем сильнее укреплялось мнение, что самые основы лицейского образования, способные, между прочим и так сказать в промежутках своего настоящего дела, создавать или поддерживать такие таланты, каким оказывался поэт наш, должны быть очень сильны и плодотворны. Все глаза обратились на этого представителя мощи и многообразности лицейского воспитания, и надо сказать, что никто и никогда не начинал литературного поприща у нас с такими условиями успеха, с таким обилием всяческих поощрений и похвал, как Пушкин. С другой стороны, открытие поэтического таланта в молодом человеке праздновалось Карамзиным, А. Тургеневым, Жуковским – старыми знакомыми его дома – как семейная радость. Можно предполагать, что если бы Пушкин и не обнаружил впоследствии всего обилия и содержания своего гения, знаменитые люди, окружавшие его смолоду, составили бы ему и без того препорядочную репутацию, как это случилось с некоторыми из тогдашних литераторов. Но Пушкин превзошел все их ожидания и имел право увековечить впоследствии ощущения, вызванные в нем первыми посещениями музы, которая стала являться к нему и осветила своим присутствием маленькую комнатку, отведенную ему в лицее. Кто не знает этих стихотворений? Мы скажем несколько слов об этой самой комнатке.
Покойный И.И. Пущин оставил любопытное описание внутреннего расположения лицея. В нижнем ярусе четырехэтажного здания находилось управление, квартиры директора и служащих лиц; во втором – столовая, конференц-зала, больница; в третьем – классы, рекреационная зала, библиотека; четвертый верхний этаж образовал длинный коридор, пробитый через капитальные стены: по обеим сторонам его находились небольшие комнатки за нумерами. Это были дортуары воспитанников, и в каждом из них помещались железная кровать, комод, конторка с чернильницей, стул перед ней и стол для умывания. Решетка сверху комнаты позволяла наблюдать за порядком в спальнях; гувернер имел свою комнату в конце коридора; ночью дядька-служитель гулял вдоль него и поддерживал огонь ночника. Одна из таких комнат за № 14-м досталась Пушкину: тут он провел шесть лет своей жизни и здесь произошло то явление музы, которое он воспел и которое, по словам его, изменило внезапно всю духовную жизнь его. Но многое и другое происходило в этой же комнате: она была свидетельницей нравственных страданий своего жильца, ибо нравственные страдания, как и пылкие страсти, посетили его очень рано. Пушкин проводил ночи в разговорах, через стенку, с другом своим, оставившим нам эти сведения и занимавшим один из соседних нумеров, а содержание этих поздних бесед, преимущественно, состояло из жалоб Пушкина на себя и других, скорбных признаний, раскаянья и, наконец, из обсуждения планов, как поправить свое положение между товарищами или избегнуть последствий ложного шага и необдуманного поступка. Этот поверенный сообщал нам также и о горьких слезах, часто орошавших, в тишине бессонной ночи, подушку молодого человека из № 14. Дело в том, что Пушкин, по словам его, наделен был от природы весьма восприимчивым и впечатлительным сердцем, на зло и наперекор которому шел весь образ его действий, заносчивый, резкий, напрашивающийся на вражду и оскорбления. А между тем способность к быстрому ответу, немедленному отражению удара или принятию наиболее выгодного положения в борьбе, часто ему изменяла. Известно, какой огромной долей злого остроумия, желчного и ядовитого юмора обладал Пушкин, когда, сосредоточась в себе, вступал в обдуманную битву со своими литературными и другими врагами, но быстрая находчивость и дар мгновенного, удачного выражения никогда не составляли отличительного его качества. Притом же, в школьной жизни особенно нельзя уберечься от неожиданно грубых вызовов. Пушкин не всегда оставался победителем в столкновениях с товарищами, им же и порожденных, и тогда, с растерзанным сердцем, оскорбленным самолюбием, сознанием собственной вины и с негодованием на ближних, возвращался он в свою комнату и перебирая все жгучие впечатления дня, выстрадывал вторично все его страданья до капли. То же было с ним и впоследствии. Школа уже предвещала его жизнь и в малом виде представляла ее изображение.
Наконец, пришло и время выпуска. Несомненные признаки возмужалости лицеистов, о чем упоминали, вероятно, ускорили этот последний акт, который свершился ранее тремя месяцами положенного, именно 9 июня 1817 года, после предварительного экзамена воспитанников, походившего, вследствие взаимных соглашений всех его участников, скорее на домашнее представление, чем на экзамен. 9 июня снова явился Государь в конференц-зале созданного им лицея, но уже не в сопровождении всего двора и важнейших государственных сановников, как при его открытии, а только с новым министром народного просвещения, князем А.Н. Голицыным, тоже имевшим, как увидим после, весьма сильное влияние на жизнь Пушкина. Много событий протекло в течении шестилетнего промежутка между возникновением школы и первыми ее плодами. Государь открывал лицей при грозных тучах, облегавших Россию со всех сторон, и возвращался к нему победителем врагов, с титулом освободителя Европы. Как будто сознавая эту разницу в своем положении отечества, Государь был не только весел и милостив, но нежен с персоналом лицея. Он сам роздал призы и аттестаты воспитанникам, и объявив значительные награды, как им, так и наставникам их, ушел, отечески распростившись со всеми. Это было его последнее посещение лицея. Затем лицеисты пропели прощальный гимн Дельвига с музыкой Тепера и на другой день распущены были по домам. Таким образом кончился для Пушкина курс лицея. Он выходил из него, как и большая часть его товарищей, с горячей головой и неустановившейся мыслью: никакого убеждения, никакого твердого и ясного представления не было добыто ими ни по одному предмету человеческого существования вообще, ни по одному явлению русской жизни в особенности. Они выносили из него отвлеченное понятие о свободе, щекотливое самолюбие и весьма живой, чувствительный point d'honneur: это были единственные орудия, которыми они были снабжены для образования из себя нравственных единиц, дельных тружеников и мужественных характеров. Замечательные люди, принадлежащие к этому первому выпуску и сделавшиеся известными именами русской администрации и гордостью своей страны, свидетельствуют только о силе собственных своих нравственных средств, далеко раздвинувших границы полученного ими от лицея образования. За порогом училища начинался для них, как уже было сказано, новый курс, где они сами были и судьями, и орудиями своего научного, политического и общественного развития.
Теперь посмотрим, куда собственно выходил Пушкин.
III
Большой свет
1817–1820
Политическое состояние общества. – Различные круги светской молодежи. – Шумная и рассеянная жизнь Пушкина. – Он принимается за эпиграммы и стихотворные памфлеты. – Возникновение тайных союзов, общий характер тогдашней светской культуры. – Что получает в наследство Пушкин от первых и от второй?
С неутомимой жаждой изведать мир и общество, открывавшиеся перед ним, ринулся Пушкин в свет и, конечно, на первых порах, не почувствовал никакой нужды выбирать свои знакомства или осторожно обращаться с новой жизнью, куда вступал без всякой руководящей мысли.
Как воспитанник лицея, Пушкин может считаться сам произведением тех плодотворных начал, которые с воцарением императора Александра I раздвинули границы народного образования, положили основание новым университетам и училищам, а со знаменитым указом 6-го августа 1809 года, поставили даже весь служебный мир в зависимость от школы, благодаря устроенной тогда связи между иерархическим повышением и ученым дипломом или публичным экзаменом. Другой не менее знаменитый указ, 20 января 1819 года, награждавший прямо известными чинами воспитанников при выпуске их из государственных учебных заведений, как это было сделано прежде всего с лицеем, привлек в стены университетов и гимназий много новых посетителей и перемешал все свободные сословия наши так, как они не были еще перемешаны до тех пор. Со всем тем, великая преобразовательная мысль, подсказавшая как эти, так и многие другие реформы в администрации, прерванная на время отечественной и заграничной компании, уже никогда не возвращалась к первоначальной своей энергии. Пушкин вышел, например, из лицея накануне, так сказать, ахенского конгресса (осень 1818 г.), принявшего, как известно, меры для ограничения вредных последствий излишне свободной европейской печати, что отразилось у нас необычайными строгостями цензуры относительно литературы нашей, ничем не заявившей наклонности к политическому бунту. В этом же году преобразовательная мысль удалилась из центра империи на окраины ее, в Польшу и Литву, и там устраивала местные интересы на таких широких основаниях, которыми возбуждали зависть русских обделенных патриотов и казались им даже началом раздробления самого государства. После недолгого колебания внутренней политики в 1819 г., еще сопротивлявшейся благодаря усилиям И.А. Каподистрии, внушениям австрийских реакционеров, преобразовательная мысль окончательно потухает и у нас. Не далее как в 1820 году являются на свет подавляющие и обскурантные теории Магницкого, по ним уже и начинающего свое разрушение казанского университета и проч. Конгресс в Троппау (1820 г.), совпадающий с происшествием в Семеновском полку, и конгрессы в Лайбахе (1821 г.) и Вероне (1822 г.) определяют затем направление дел в России так ясно, что сомневаться в повороте преобразовательной мысли на другую дорогу не предстояло возможности. Появление Пушкина на арене света приходится, таким образом, именно к началу этой непредвиденной остановки в естественном развитии и ходе новых учреждений, что не одного его сбило с толку и лишило возможности видеть настоящий свой путь между двумя порядками жизни, одинаково сильными и требовательными.
Истинное спасение людей в подобные затруднительные эпохи истории составляет, без сомнения, общий характер накопившихся материалов образования в известной стране, те нравственные и политические начала, какие она успела уже выработать для себя. Они помогают спокойно ожидать прохода мутной струи случайных обстоятельств, которая не в состоянии поглотить самые основы приобретенной цивилизации. Ни такого общего характера образования, ни таких начал не существовало еще у нас в то время. Университетское поколение, которое одно могло их представить, еще не нарождалось.
Оно показывается у нас не ранее тридцатых годов. Пушкин его не знал добрую половину жизни и встретился с ним только на конце своего поприща, приветствуемый новыми людьми с любовью и восторгом, каких, может быть, и не ожидал от них. Еще не было тогда людей, связанных общностью научного и нравственного воспитания, а существовали только образцы разнокалиберных, разнохарактерных, вольных, так сказать, образований и направлений, которые ничего общего между собой не имели, а связывались механически употреблением одного и того же французского языка, с большей или меньшей развязностью. По выходе из лицея, Пушкин как раз подоспел к тому времени, когда эти образчики различных степеней культуры, собранные в столице службой, заняты были мыслью и истощались в усилиях сговориться и сблизиться друг с другом, на каких-либо основаниях, на каком-либо деле, одинаково понятном для всех.
Новые постановления, вызывавшие и устраивавшие публичное образование на Руси, не тронули, однако же, одной исторической тропы, по которой дети высшего и зажиточного дворянства восходили ко всем видам и родам государственной службы уже более столетия, именно военной. Она и теперь осталась вполне открытой для них, избавляя их от конкуренции с разночинцами и от уступки духу новых демократических учреждений. В кругу этой светской и богатой военной молодежи Пушкин именно и нашел первые свои знакомства. Многие из литераторов сами принадлежали к нему, да и вообще блестящее сословие гвардейских офицеров давало тогда свой тон и окраску всему молодому поколению, не исключая и тех лиц, которые, по роду службы и призванию, к нему не принадлежали. Это сословие создало свой собственный тип изящества и благородства, казавшийся непогрешимым идеалом для целого поколения, которое старалось понять и перенять его – и это не в одних столицах, а на всех концах империи. И совсем тем сословие не имело нисколько целостности и однородности сильной корпорации, как можно было бы предполагать: оно еще делилось по образованию своих членов, по началам, понятиям и убеждениям их на множество несходных и противоположных кругов, как и само общество. В среде его были люди, едва одолевшие легкий, вступительный экзамен, положенный для определяющихся, и были люди с европейским космополитическим образованием, которое некоторыми из них приобреталось из первого источника, за границей. Деление и тут не кончалось: в последнем разряде высились еще отдельно и самостоятельно личности, серьезно занимавшиеся теми вопросами современной политики, истории и этнографии, которые возникли в Европе после падения ее самовластного опекуна, Наполеона I-го. Были различия еще более крупные.
Оттенок либерализма, господствовавший в передовых людях военного сословия и бросавший на него особенно яркий и эффектный блеск, не мешал процветать на той же почве страстным ревнителям тогдашней дисциплины и суровой военной практики. Под говор суждений и ученых толков своих товарищей, служаки эти спокойно продолжали требовать от природы русского человека сверхъестественных подвигов выправки, поставляя за честь приводить в трепет массу взрослых людей одним своим взглядом и не обращая внимания ни на какие протесты ближайших начальников своих. В покровительстве, какое они находили свыше, сказывалась основная черта этого периода нашей истории, сознательно допускавшего одновременное существование зачатков нового развития с порядками старой эпохи. Надо прибавить, что именно эта черта и действовала на горячие натуры особенно болезненно и раздражительно.
Если найдется историк самого русского общества для этой многоцветной и своеобразной эпохи, то ему уже необходимо будет к портретам таких гвардейских офицеров, как П.Я. Чаадаев, П.А. Катенин, Марин, Кривцов и мн. др. присоединить и биографии знаменитостей другого рода, тех казарменных героев, приводивших в ужас все им подчиненное, имена которых были так громки и славны в свое время, что пережили его, и стали забываться не очень давно.
Из всех этих разрядов, кроме последнего, слишком глубоко погруженного в свои специальные занятия, выделялся еще тогда один кружок, который уже ни о чем другом не думал, кроме эпикурейского наслаждения жизнью. Правда, что сущность этого эпикурейства он полагал в одном громадном, богатырском разгуле, сохранявшемся долго в воспоминаниях современников. Круг этот не был исключительно военным: он числил промеж себя молодых людей всех званий, и к нему-то Пушкин и пристроился тотчас после выхода из лицея. Все дело состояло тут в задаче расточать, как можно полнее, развязнее, без оглядки и расчета, свое состояние, у кого оно было, свое время, физические и нравственные силы свои, сохраняя при этом только сословную гордость и презрение к орудиям, которые герои кутежей употребляли для своей потехи. Разгул получил даже вид доблести, потому что соединялся с рискованными шалостями, вызывавшими на самопожертвование, что сообщало ему особую заманчивость в глазах молодежи, которая охотно предается удовольствиям, сопряженным с опасностью. Явилось соревнование в изобретении наиболее отчаянных, скандальных проказ, а также хвастовство тем запасом жизни, который сожжен был при том или другом случае. Как ни велико было богатство физических сил у Пушкина, но он все-таки два раза лежал, в течении трех лет, на краю гроба, в горячке, именно по милости постоянных возбуждений организма, не выдержавшего всей удали этого богатырского кутежа. Мы никак не могли опустить этой биографической черты в нашем рассказе, потому что с нею связываются очень много стихотворений Пушкина, очень много его воспоминаний, посланий, намеков, а наконец, и то обстоятельство, что она, отметив его существование в столице, была причиной общего мнения о неспособности его к дельному труду, к серьезному размышлению и к самообладанию[23] вообще.
Все эти Щ*, Ю*, Э*, К* (полные имена приведены в собрании стихотворений Пушкина) были, действительно, руководителями его на поприще расточительного беспутства, которое было не под силу и в материальном смысле ограниченным средствам поэта, часто не располагавшего, как сам сознается, и копейками для оплаты извозчика. Новые друзья его представляли, так сказать, аристократию разгула. От этого, может быть, подвиги их и держались так долго в памяти людей и пересказывались с таким упоением в провинциях. Пушкин отдаривал своих руководителей стихами и посланиями, наравне с модными тогда прелестницами – Штейнгель, Ольга Масон (см. пьесы: «Выздоровление», «Ольга, крестница Киприды»). Замечательно, что люди, так охотно убивавшие свою молодость, были не только веселые и остроумные люди, но и хорошо образованные, по-своему, и очень даровитые: между ними встречались дельные личности, успевшие потом с остатками уцелевшей энергии выказать значительные способности. Серьезная подготовка некоторых из них составляла довольно пикантную противоположность с их образом жизни и обычными занятиями. Знаменитый Каверин, например, не знавший никогда, по уверению современников, ни усталости, ни поражения в обычных подвигах этого кутежного братства, был еще слушателем в геттингенском университете, где он оканчивал свое образование, не более, не менее, как Н.И. Тургенев. Защитники этих русских Лукуллов и Катилин (а они находили защитников и в очень высоких сферах общества) утверждали, что причину всех их излишеств должно искать в праздности, на которую обречены были их душевные и умственные силы; но если причина и существовала, то к ней примешалось уже столько других влечений, выдуманных потребностей, искусственных возбуждений и, наконец, простого баловства жизнью и состоянием, что серьезно останавливаться на ней нет никакой возможности.









