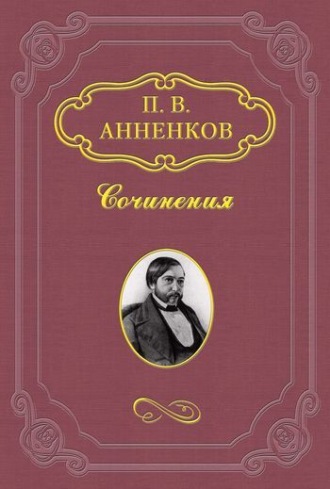 полная версия
полная версияПушкин в Александровскую эпоху
9
Там же. – С. 172.
10
После краткой, но обстоятельной и дельной монографии А.П. Ганнибала, составленной М.Н. Лонгиновым и помещенной в «Русском Архиве» 1864 г., № 2-й, все данные для жизнеописания знаменитого арапа, кажется, исчерпаны. М.Н. Лонгинов имел под руками и формуляр Абрама Петровича. Некоторые догадки и заключения, вызванные показаниями этого формуляра, отчасти подтверждаются, отчасти дополняются дальнейшим нашим рассказом, но общий характер биографии знаменитого негра остается, несмотря на эти официальные данные, все еще с оттенком легенды и предания, и признаков полной исторической правды вряд ли когда-либо и получить.
11
Замечание это подтверждается еще и тем, что множество арапчиков было выписываемо и прежде и после Абрама Петровича из того же Константинополя ко двору и частными лицами. Многие из них и назывались Абрамами – именем, как будто уже усвоенным этим несчастным детям. Академик Пекарский упоминает о служителе арапе Абраме, отданном Петром I в обучение в школу при Александроневском монастыре, где он проходил букварь. Это было в 1725 г., когда наш Абрам Петрович уже возвратился в Россию из Франции и произведен в гвардии-поручики. В «Русском Архиве» 1867 г. помещено еще известие о высылке П.А. Толстым из Константинополя к вице-канцлеру гр. Головнину трех других арапчиков в подарок, причем один тоже назывался Абрамом.
12
Решаемся привести здесь еще анекдот из «Россказней», касающийся Ганнибала, и убеждены, что он не покажется странным в печати. Пушкин записывает: «Однажды маленький арап (в рукописи зачеркнуто Ганнибал), сопровождавший Петра I-го в его прогулке, остановился за некоторой нуждой и вдруг закричал в испуге: «Государь, Государь! Из меня кишка лезет». Петр подошел к нему и, увидя в чем дело, сказал. – Врешь; это не кишка, а глиста, – и выдернул глисту своими пальцами. Анекдот довольно не чист, но рисует обычай Петра».
13
Князь Шаховской, противник «Арзамаса», как известно, задетый в «Опасном Соседе», довольно забавно говорил про автора его: «Ну, не несчастье ли мое? Человек в первый раз, отродясь, сказал остроту – и то на мой счет». Впрочем, принадлежность «Опасного Соседа» исключительно одному Василию Львовичу подвергалась тогда сильному сомнению. Говорили, что поэма исправлена сообща кружком друзей, в числе которых был и всегдашний покровитель В. Пушкина, В.А. Жуковский. Ему приписывали и стих: «Прямой талант везде защитников найдет», направленный против кн. Шаховского и так много смешивший партию антишишковскую.
14
См. анекдот, рассказанный г. Бартеневым в «Отеч. записках» 1853, № 11. Александр Сергеевич Пушкин, случившийся при этом в комнате, шепнул окружающим: господа, «Уйдем отсюда, пусть это будет последним его словом».
15
Муж графини, В. В. Op., проживший потом много лет за границей, имеет в нашей литературе некоторую известность, как переводчик басен Крылова и других русских произведений на французский язык.
16
Поразительные их отзывы о моральной стороне его воспитания и преждевременном развитии его ума и всех способностей увидим ниже.
17
Проф. Куницын, Кайданов и Карцов были посланы от него за границу, для окончательного своего образования.
18
Энгельгардт замечал, что ум Пушкина, не имея ни проницательности, ни глубины, – совершенно поверхностный, французский ум. Далее он прибавляет: «Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто (!!); в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце. Нежные и юношеские чувства унижены в нем воображением, оскверненным всеми эротическими произведениями французской литературы, которые он при поступлении в лицей знал почти наизусть, как достойное приобретение первоначального воспитания» («Современник» 1863 г., № VIII-й, стр. 376). Последняя часть заметки имеет основание, но общий приговор, ею выражаемый, принадлежит к числу тех странных решений, которые во все времена слышались от официальных педагогов относительно замечательных детей, и которые потом удивляли потомство своею неосновательностью. В извинение заметки можно сказать, что не лучшего мнения о Пушкине были и некоторые его товарищи. Так, например, человек, имя которого очень высоко стоит в России и не безызвестно Европе, MA. К., выражался очень строго о своем лицейском собрате: «Как в школе, – писал он в 1852 г., – всяк имеет свой собрикет, то мы его прозвали французом, и хотя это было, конечно, более вследствие особенного знания им французскаго языка; однако, если вспомнить тогдашнюю, в самую эпоху нашествия французов, ненависть ко всему, носившему их имя, то ясно, что это прозвание не заключало в себе ничего лестного. Вспыльчивый до бешенства, с необузданными, африканскими, как его происхождение (по матери), страстями; вечно рассеянный, вечно погруженный в поэтические свои мечтания, избалованный от детства похвалою и льстецами, которые есть в каждом кругу – Пушкин, ни на школьной скамейке, ни после в свете, не имел ничего привлекательного в своем обращении… В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших, нравственных чувств; он полагал даже какое-то хвастовство в высшем цинизме по этим предметам… и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда говорил даже более и хуже, нежели думал и чувствовал…» Иначе смотрит на Пушкина другой товарищ его, короче с ним сблизившийся, И.И. П.: для него Пушкин доброе, даже нежное по преимуществу любящее существо, но требовавшее, чтобы качества его души были отыскиваемы посторонними. Много пояснил И.И. П. относительно нерасположения товарищей к Пушкину, и в дальнейшем нашем рассказе об этом обстоятельстве мы следуем преимущественно его указаниям. Вот еще какую заметку проронил он, рисуя портрет своего детского друга: «Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали; все, что читал – помнил; но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас было 12 лет) со скороспелками, которые по каким-либо особенным обстоятельствам, и раньше, и легче находят случай выучиться… Все научное он считал ни во-что, и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и проч. В этом даже участвовало его самолюбие – бывали столкновения очень неловкие. Как после этого понять сочетание разных внутренних наших двигателей! Случалось точно удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным, не по летам, в думы и чтение – и тут же он внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее неспособный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли…» (Записки И.И. Пущина. «Атеней» 1859, № 8-й). Понятно, что примирение этих противоречий, а также и разноречивых показаний свидетелей может произойти только тогда, когда будет найден литературой и воссоздан художнически-полный тип нашего поэта, в котором примирятся и улягутся, психически-объясненные, все черты и данные, по-видимому исключающие теперь друг друга.
19
Покойный граф Н.И. Ш., сам воспитывавшийся в коллегии.
20
Известно также, что православные дети исполняли и обязанности «служек» – garçons du choeur – при католических обеднях в коллегиуме, что предрасполагало их к обрядам и уставам чужой церкви.
21
Эту мысль особенно выражал граф Л.Н. Толстой, которого, несмотря на его увлечения и неудачи, нельзя не причислить к замечательным русским педагогам.
22
Воспитанник лицея А. Илличевский извещал одного приятеля своего тогда же, что «Пушкин пишет комедию – философ» («Р. Арх.», 1864, № 10)
23
Какие разнообразные и затейливые формы принимал тогдашний кутеж, может показать нам общество «Зеленой лампы», основанное Н.В. Все-м и у него собиравшееся. Розыскания и расспросы об этом обществе обнаружили, что он составлял, со своим прославленным калмыком, не более, как оргиаческое общество, которое, в числе различных домашних представлений, как изгнание Адама и Евы, погибель Содома и Гомморы и проч., им устраиваемых в своих заседаниях (см. статью г. Бартенева: «Пушкин на юге»), занималось еще и представлением из себя, ради шутки, собрания с парламентскими и масонскими формами, но посвященного исключительно обсуждению планов волокитства и закулисных проказ. Когда в 1825 г. произошла поверка направлений, усвоенных различными дозволенными и недозволенными обществами, невинный, т. е. оргиаческий характер «Зеленой лампы» обнаружился тотчас же и послужил ей оправданием Дела, разрешавшиеся «Зеленой лампой», были преимущественно дела по Театральной школе, куда некоторые из ее членов старались даже пробраться под видом говения. Школа имела свою церковь Вероятно, тут же слушались и анекдоты из насущной скандальной хроники общества, в роде анекдота с театральным майором, где первым действующим лицом был сам Пушкин, и тому подобных.
24
Покойный Я.И. Сабуров, свидетель эпохи, узнавал в фигуре мужчины за столом того же Каверина, о котором сейчас говорили. Известно, что Каверин был секундантом у гусара Завадовского в дуэли, наделавшей тогда много шума и стоившей жизни противнику Завадовского – Шереметеву. Дуэль возникла из ссоры обоих соперников за танцовщицу Истомину, согласившуюся принять вечер у одного из них.
25
В оригинале Лафайэтом
26
Так почтенный Ник. Ив. Тургенев произносит об нем приговор более чем суровый, именно иронический приговор в своей брошюре: «Ответы Тургенева, 1867 г.» (по поводу некоторых замечаний о наших тайных обществах в книге Е.П. Ковалевского «Граф Блудов>). Он утверждает, что под конец общество занималось шутовскими церемониями приема новых членов, и что вообще заседания его возбуждали осуждение и нескрываемые улыбки презрения со стороны наиболее развитых членов братства (стр. 26 и 27 «Ответов»). Он добавляет свои известия замечанием: «Многие вступали в общество, но, вступая в него в одну дверь, выходили в другую». Он неправ только в том, что на основании малого политического смысла, обнаруженного обществом, отвергает и политический характер вообще, ему приписываемый.
27
Песенка «Noël» – пародия рождественских поздравительных песенок средневековой Европы – написана была в осмеяние слухов о скором даровании империи новых установлений, – слухов, распространившихся в публике после речи, произнесенной Императором при открытии первого сейма в Варшаве (1818).
28
Забавен также ответ Пушкина на предостережение такого же рода, сделанное ему кем-то весной, при вскрытии Невы: «Теперь – сказал он – самое удобное время либеральничать: сношения с крепостью прерваны». Наш биографический очерк был уже написан, когда мы нашли в переписке Н.М. Карамзина с И.И. Дмитриевым, изданной в 1866 г., заметку первого о нравственном состоянии Пушкина, когда над ним разразилась наконец гроза, уже давно ожидаемая всеми близкими к нему людьми. Н.М. Карамзин пишет: «Хотя я уже давно истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде; однако же, из жалости к таланту замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет. Мне уже поздно учиться сердцу человеческому – иначе я мог бы похвалиться новым удостоверением, что либерализм наших молодых людей совсем не есть геройство и великодушие.» (Переписка, стр. 287). Почтенный историограф имел право изумиться отсутствию этих добродетелей у предполагаемого революционера, но он не знал, что в настоящем случае не было и почвы для геройства и великодушия, которые вырастают только на сумме верований и убеждений, добытых опытом и размышлением, а до них Пушкин еще не дожил.
29
Литература по этому предмету уже довольно обширна у нас. Подробности этих событий достаточно известны из статей в «Чтениях Московского Общества любителей истории и древностей» 1862 г., из монографии «Магницкий» – в «Русском Вестнике» 1865 г., составленной г. Феоктистовым, и из статей: «Материалы для образования в России в царствование Императора Александра I-го», г. Сухомлинова в «Журнале Министерства Народного Просвещения» 1865 г., и в приложении к нему 1866 г. – Позднейшие статьи А.Н. Пыпина, в «Вестнике Европы» 1870 г., дополняют этот ряд чрезвычайно важных и любопытных исследований.
30
Само собой разумеется, что определяя общий характер писателей того времени, мы должны исключить из этого очерка имена тех тружеников науки, литературы и искусства, которые составляли славу эпохи. Таковы имена Жуковского, Карамзина, Ник. Тургенева, Куницына, Велланского и т. д.; но все эти лица стояли особняком, вне волнений литературных кругов, занятые каждый своим делом, и не дали им от себя ни тона, ни окраски, а еще менее какой-либо части собственного своего содержания.
31
В книжном варианте нижеследующий текст расположен в две колонки. Здесь и далее подобный формат книжного текста будет снабжен соответственными комментариями в угловых скобках
32
Можно добавить к этому в виде археологической подробности, что «Общество» Измайлова склонялось более к воззрениям «Беседы Любителей Русского Слова» Державина и Шишкова, и потому преследовало в своем органе романтизм и его «баловней», между тем как «Вольное общество» Глинки радушно относилось к новым деятелям и видимо состояло под влиянием знаменитого «Арзамаса», хотя и собиралось в доме Державина, как прямой наследник основанной им «Беседы».
33
Надо помнить, что мы не говорим о жаркой борьбе, происходившей некогда между членами Шишковской «Беседы» и «Арзамасом» и действительно разделявшей их сторонников на серьезные партии. Ко времени выпуска Пушкина из Лицея – 1818 г., ни «Беседы», ни «Арзамаса» уже не существовало фактически, о чем ниже.
34
Можно пожалеть, что слух о намерении «Арзамаса» издавать журнал, слух, сильно распространенный в тогдашнем литературном мире, оказался несправедливым, также точно как нельзя не пожалеть и о том, что не состоялась политическая газета Н.И. Тургенева. Мы бы могли судить тогда с поличным в руках о направлениях, разделявших старых членов «Арзамаса» от новых.
35
Строки эти были уже написаны, когда мы нашли подтверждение нашей мысли в двух замечательных изданиях последнего времени, именно в «Переписке Карамзина с Дмитриевым», издании академиков П. Пекарского и Я. Грота, и в «Истории царствования Александра I-го», составленной генералом М. Богдановичем. Не то ли же думал сам император Александр I-й, когда, по свидетельству своего историка, за несколько дней до кончины, говорил: «Пусть толкуют обо мне, что хотят, но я был и остался республиканцем». Конечно, знаменательные слова эти не могут быть поняты в смысле как бы отречения власти от своих прав, а содержат в себе, по нашему мнению, только благородное убеждение в ее назначении служить многостороннему развитию общества, всеми своими силами и средствами. И не пояснял ли ту же мысль Карамзин, когда в задушевной переписке с И.И. Дмитриевым, еще задолго до слов Императора, говорил: «я бы желал назвать себя монархическим республиканцем». Арзамасцы были такими республиканцами, готовыми всем жертвовать за монархическое начало в России. С течением времени мысль о дружном, параллельном развитии власти и свободы затерялась в среде членов описываемого общества, но в эпоху цветения «Арзамаса» она составляла драгоценнейшее убеждение их.
36
В Материалах для ист. образования, г. Сухомлинова, 1866. Статья I.
37
Мы воздерживаемся от ссылки на некоторые его параграфы, просто лишающие возможности русских ученых и писателей заниматься вопросами истории, права и иностранными литературами. Любопытные могут найти устав в Полном Собрании Законов.
38
Из неопубликованных записок А.С. Шишкова.
39
Пушкин отчасти испытал и на себе это действие цензуры. Имя его было так страшно и подозрительно ей, что он принужден был печатать несколько стихотворений, и притом самых чистых и возвышенных, как, напр., пьесы: «Овидию», «Мечта воина» – без подписи своего имени, а только со звездочками, во избежание ее придирок («Полярн. Звезда» 1823 года). Элегия («Простишь ли мне ревнивые мечты») тоже явилась без подписи автора («Пол. Звезда» 1824 г.).
40
Несколько слов о ней сохранилось в «Русском Альманахе», изд. В. Эртелевым и А. Глебовым (стр. 218).
41
В числе их находится и пьеса: «Уединение» («Деревня», по первой редакции), конец которой, направленный против крепостного права, стал известен и государю, одобрившему как мысль, так и стихи произведения; но эта вторая и существеннейшая половина его не попала ни в одно издание сочинений поэта при его жизни. Так точно другое стихотворение, тогда же им написанное (а не в лицее, как утверждают некоторые биографы), именно: «Послание к Императрице Елизавете Алексеевне», только один раз было напечатано в журнале «Соревнователь Просвещения» (1819, № 10-й) и затем уже не повторялось более вплоть до 1856 г.
42
См. «Историю» г. Богдановича.
43
Вот полное ее оглавление по каталогу Смирдина, где она приведена за № 2112: «Конституция Англии, или состояние английского правления, сравненного с республиканскою формою и с другими европейскими монархиями, соч. де-Лольма, пер. с фр. Иван Татищев, 2 части. М. В универс. типогр. 1806 г. (8) 15 руб.»
44
В предшествующем, недостающем периоде была или могла быть, по всем вероятиям, речь о «Демоне», как о копии с живого оригинала.
45
См. пьесы 1820 г.: «Дориде», «Дорида», «Нереида», элегии: («Редеет облаков летучая гряда») и др.
46
Если сличить это место с цитатой о феодализме, которую мы не без намерения привели выше, то разница между созерцанием Пушкина в 1821 и взглядами его в 1831 окажется очень значительной. Мы объясняем далее причины этой кажущейся разновидности.
47
Пушкин никогда не занимался полит. экономией, но вспомним моду на Адама Смита, Беккария, Филанжьери и проч. Без слова о полит. экономии нельзя было обойтись.
48
Тут есть исторический намек. Вдова Валберхова, по этой программе, должна была говорить, вероятно, о либералах-аристократах эпохи, братавшихся с разночинцами и убегавших от общества и его удовольствий для того, чтобы, предаваться серьезным занятиям и беседам о важных предметах. Пушкин часто упоминал и потом об этой черте эпохи.
49
Так известная проделка Пушкина с молдавским боярином Бальш, которого он заставил лично отвечать за неосторожное или необдуманное слово жены, получила следующее «иллюстрированное» толкование. Пушкин изобразил в пустой комнате длинного сухощавого человека, по-видимому, только что разбуженного, в куртке, но без исподнего платья, который стоит с раздвинутыми руками, и с видом крайнего изумления ищет, этой принадлежности своего туалета. Комната украшена только деревянным стулом, да на окне, спиной к зрителям, помещается символ лукавой робости – кошка. Внизу надпись: «Ma femme, ma cullote, et mon duel donc! Ah, ma foi, qu'elle s'en tire comme elle voudra, puisque c'est elle qui porte cullotte».
50
Не Фрикен ли? известный кишиневский врач того времени.
51
Один отрывок, из того же плана поэмы, – смерть, обыгрывающая посетителя в карты, – приведен в «Сочинениях Пушкина» 1857 т. VII, лис. 88-й.
52
Этому не противоречит и значительное количество эпиграмм, оставшихся у Пушкина от кишиневской жизни и написанных для потехи приятелей. Они не имеют ничего общего с сатирой, требующей другого настроения. Все они, сколько мы их ни видели, уже потеряли от времени свою соль и жало. Таковы эпиграммы на К-зи, на Федора Кру-го, прозванного Тадарашкой, на известную умницу Тарсис (кишиневская Жанлис), на страстную игрицу в банк m-me Богдан и т. д. К тому же роду принадлежат эпиграммы и послания к Аглае, обращения к женщине, потерявшей один глаз, и проч. Цинические эпистолы к еврейке, содержательнице одного постоялого дома, довершают этот ряд застольных экспромптов и произведений.
53
Князь Ипсиланти.
54
Письмо в этом месте прожжено два раза насквозь.
55
Пушкин, вероятно, подразумевал во втором народе Италию и карбонарское движение ее.
56
То есть Али-Паша, принявший христианство.
57
В июньской книжке «Вестника Европы» за 1874, передан следующий рассказ самого В.Ф. Раевского, касающийся этого дела:
«1822 года, 5-то февраля, в 9 часов пополудни кто-то постучался у моих дверей. Арнаут, который стоял в безмолвии передо мною, вышел встретить или узнать кто пришел. Я курил трубку, лежа на диване.
– Здравствуй, душа моя! сказал Пушкин весьма торопливо и изменившимся голосом.
– Здравствуй, что нового?
– Новости есть, но дурные; вот почему я прибежал к тебе.
– Доброго я ничего ожидать не могу после бесчеловечных пыток С. (Эти слова относятся вероятно к следствию, которое производил С. над нижними чинами одной роты). Но что такое?
– Вот что, продолжал Пушкин: С. сейчас уехал от генерала (Инзова); дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но слыша твое имя, часто повторяемое, признаюсь, согрешил – приложил ухо. С. утверждал, что тебя надо непременно арестовать; наш Инзушка – ты знаешь, как он тебя любит – отстаивал тебя горячо. Долго еще продолжался разговор; я многого не дослышал; но из последних слов С – ва ясно уразумел, что ему приказано: ничего нельзя открыть, пока ты не арестован.
– Спасибо, сказал я Пушкину; я этого почти ожидал; но арестовать штаб-офицера по одним подозрениям отзывается турецкою расправой; впрочем, что будет, то будет. Пойдем к Липранди, – только ни слова о моем деле».
58
К нему-то, несколько позднее и уже в эпоху Греко-Турецкой брани, Пушкин обращался с экспромтом, не лишенным, впрочем, своего рода иронического оттенка, как можно судить по последним его стихам:
«И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа —
Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь – свобода!
Хвалю тебя, о верный брат,
О каменщик почтенный!
О Кишинев, о темный град!
Ликуй – им просвещенный»!
59
INotice sur la revolution d'Ipsylanti
Le Hospodar Ipsylanti trahi la cause de l'Ethérie et fut cause de la mort de Riga et… Sons fils Alexandre fut Ethériste (probablement du choix de Capo-d'Istria et de l'aveu de l'Empereur). Ses frères, Кан, Контогони, Софианос, Тапо. Michel Suzzo fut reçu Ethériste en 1820; Alexandre Suzzo, Hosp. de Valac. Apprit le secret de l' Ethérie par son secrétaire (Valetto), qui se laissa pénétrer ou gagner en devenant son gendre. Alex. Ips. en janvier 1821 envoya un certain Aristide en Servie avec un traité d'aillance offensive et deffensive entre cette province et lui, général des armées de la Gréce. Aristide fut saisi par Alex. Suzzo, ses papiers et sa tête furent envoyés а Constantinople – cela fit que les plans furent changé tout de suite, Michel Suzzo écrivit а Kichineff. On empoisona Alex. Suzzo et Ipsylanti passa à la tête de quelques Arnautes et proclama la révolution.
II.Les capitans sont des indépendants, corsaires, brigands ou employés Turcs revêtus d'un certain pouvoir. Tels furent Lampro etc. et en dernier lieu Formaki, Iordaki-Olimbiotti, Колокотрони, Контогани, Anastas etc. Iordaki-Olimbiotti fut dans l'armée d'Ipsyl. Ils se retirèrent ensemble vers la frontière de la Hongrie. Alex. Ipsylanti menacé d'assasinat s'enfuit d'après son avis et fulmina sa proclamation. Iordaki à la tête de 800 h. combattit 5 fois l'armée Turcs, s'enferma enfin dans le monastère (de Scovlian). Trahi par les juifs, entouré des Turcs il mit le feu à la poudre et sauta.









