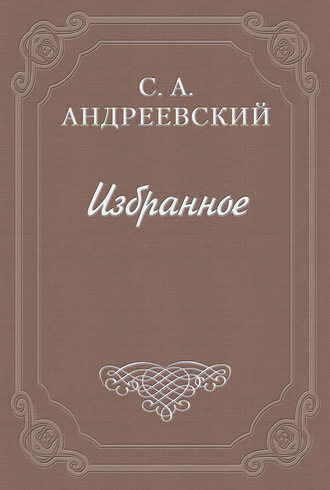 полная версия
полная версияКнига о смерти. Том II

Сергей Аркадьевич Андреевский
Книга о смерти. Том II
Часть третья
I
Теперь уже я могу просто рассказывать свою жизнь. И все, что бы я ни написал, будет соответствовать заглавию книги.
* * *Прошло еще два года. Каждая их минута была по-своему любопытна и значительна. Даже то, что виделось во сне, вполне захватывало, хотя бы на время, мою душу. Возможно ли удержать все это!.. Пришлось бы не жить, а только записывать. И сколько бы получилось повторений, общеизвестных и ненужных, тогда как в самой жизни все это выходило как бы новым и необходимым! Но эти мгновения уже успели исчезнуть бесследно и для меня. Оглядываясь назад, я могу довольно кратко передать мою жизнь за это время.
Возвратившись в начале августа из Парижа, я вступил в привычные условия начинающегося рабочего года. Вскоре приехала из Друскеник моя семья и начались судебные дела. В эту осень я задумал привести в порядок материалы настоящей книги, чтобы увидеть хотя бы начало ее отпечатанным на ремингтоне. Более всего меня пугали первые строки, первые страницы. Но я заставил себя просмотреть их снисходительно, надеясь, что дальше пойдет лучше. Оказалось нужным приделать более подробную автобиографию, и я весь углубился в свое далекое прошлое. Писал я при лампе, в поздние часы, перед сном, а наутро продолжал переживать свою повесть на прерванном месте, не замечая настоящего и поджидая ночных часов, чтобы в тишине записывать развернувшуюся передо мною ясную картину. Так пробежали осенние месяцы и наступила зима.
В ноябре сестра моя задумала усиленно вызывать меня в Харьков, чтобы я прочел там какую-нибудь лекцию. У меня был в запасе только сброшюрованный фельетон о Тургеневе, помещенный года за два перед тем в «Новом времени», и я решил прочесть его публично. Списавшись с профессором Багалеем насчет дня лекции и залы, я около середины декабря выехал в Харьков. Перед самым выездом я сдал на ремингтон страницы этой книги, относящиеся к моей студенческой жизни, а потому улицы Харькова были в то время особенно близки моему воображению.
Множество раз я бывал в Харькове и ранее, с тех пор как в далекие годы впервые покинул его перед поездкой для женитьбы. Описание моих последовательных свиданий с Харьковом составило бы целую историю сладких и мучительных прикосновений к прошедшему. Все это уже перегорело во мне. Но никогда в мои предыдущие поездки я не возобновлял в своей памяти того маленького домика за Нетечею, в котором тянулись страшные дни моей мучительной тоски. Я отмахивался от этого призрака и в душе побаивался его. И вот теперь, когда я заживо перестрадал свой кошмар на бумаге, я с какою-то жуткою храбростью собирался навестить именно этот уголок города.
На другой же день по приезде я отправился совершить эту прогулку. Мне захотелось пойти туда пешком. Мелкий снег кружился в легком морозном ветре. Из своей гостиницы я пробрался через Павловскую площадь, глядя себе под ноги и встречая кое-где булыжник, обнаженный ветром среди крепкого снега. Влево желтели грязные, обветшалые университетские здания, а направо открывался поворот в улицу, ведущую за Нетечу. Я вступил на кирпичный тротуар и пошел вдоль тех же москательных и железных лавок, мимо которых тридцать лет тому назад ходил в университет. Я ждал: не екнет ли сердце прежнею тоскою? Все вокруг пестрело в моих глазах поразительно одинаково с каждым мгновением тех давних дней, как будто я и теперь возвращаюсь с лекции, как будто и мой умерший брат еще студент и будто передо мною снова лежит неразрешимою задачею предстоящая, начинающаяся жизнь. Я не противился этому впечатлению. Я даже радовался тому, что моя прежняя тоска так явственно себя напоминала. Грудь моя стеснилась – и я вздохнул, но тут же почувствовал, что во мне живет не настоящее, а прошедшее. Никакого страха я не испытывал. Нечего было и настраиваться на старый лад! Мне было грустно, без всякой примеси того ужасающего отчаяния перед неразрешимостью… А разве что-нибудь было разрешено? Нет. Но теперь казалось, что это вовсе и не нужно.
И я храбрее пошел вперед. Ни мост через Нетечу, ни пустырь налево, по которым прежде каждый шаг казался мне «смертною ступенью», – не смутили меня. Но я не сразу узнал среди низких домиков то место, где начиналась наша улица: в моей памяти вход в нее рисовался несколько иначе. Мне думалось, что с пустыря сейчас же завиднеется промежуток между домами. Пришлось, однако, взять немного вправо – и улица раскрылась, такая же узенькая и тихая. Вот он, вот, четвертый домик от угла. Те же три окошечка и запертая дверь на галерейку. На столбе ворот белая дощечка с надписью: «Н. Дувиной». Это наша хозяйка – Настасья Степановна Дувина. Значит, она овдовела, она еще жива. Ей теперь за семьдесят! Я простоял несколько мгновений на деревянных мостках под замерзлыми окнами. Зачем туда входить? О чем разговаривать? Вот это мое немое присутствие подле той старухи за стеною – это и есть вечность… Пусть идет снег, пусть старуха доживает свои дни… Нет, я не войду…
На обратном пути в гостиницу я уже почти не узнавал своего давнишнего настроения, хотя передо мною восстановлялось очень живо наше хождение в университет. Придя к себе, в свой просторный угловой номер, я присел за стол перед диваном и стал смотреть на крутившийся за окнами снег. Был второй час дня – время окончания лекций. Как я тогда мучился вопросом: к чему ведет каждый наш день!! И вот теперь те же часы дня, то же время года, то же зимнее освещение и вопрос тот же и сам я тот же… Но теперь, сколько ни углубляйся в этот вопрос, уже не соскочишь с рельсов… Мало ли что! Теперь уже давно заведенная жизнь: всегда что-нибудь надо делать. Может быть, и не нужно, а надо. Да вот, что же лучше. Ведь я приехал только для того, чтобы прочесть лекцию. Публика купит билеты: надо отслуживать перед публикой.
В городе были расклеены на видных местах розовые афиши о моей лекции. Фамилии Тургенева и Андреевского были напечатаны громадными буквами. Меня не пугало это неимоверное сближение, и я не смущался судьбою предстоящей лекции. Профессор истории Багалей, маленький тщедушный человек в очках, с жидкой бородкой и сильным хохлацким выговором, ходил вокруг меня с тихою и выжидательною заботливостью. Он думал о барышах для своего любимого детища, городской библиотеки, и досадовал, что для моего чтения был свободен только зал Думы, гораздо менее поместительный, нежели зал Дворянского собрания.
В день лекции я должен был обедать у моего товарища по гимназии и университету, того самого, который когда-то, будучи студентом, жил со мною и братом в домике за Нетечею. Теперь он был ректором Харьковского университета. Я прошел через те самые сени, в которые мы все трое, еще мальчиками, вступали с прошениями о принятии нас в число вольнослушателей. Высокая комната смотрела обедневшею и неопрятною. Меня тотчас же позвали к «ректору». Я миновал громадную пустую залу заседаний Совета – истинное святилище, в котором когда-то решалась наша судьба – и был крайне удивлен, когда увидел, что позади этой величественной комнаты находился совсем крошечный кабинет ректора, какой-то голый и неуютный застенок с простеньким письменным столом и кучами бумажных дел на полу. Мы условились с моим другом насчет обеда, и я тотчас же вышел, встретив при выходе, за дверью кабинета, двух студентов-просителей.
За обедом я признался товарищу, что ходил за Нетечу, и мы поговорили о Дувиных. Оказалось, что кроме нашей бывшей хозяйки, никого из обитателей домика не осталось в живых и что ранее всех умерла ее молоденькая замужняя дочь – умерла вскоре после того, как мы оставили квартиру.
После обеда я съездил к себе в гостиницу, чтобы переодеться для лекции. На лестнице Думы я застал поднимавшуюся и торопившуюся публику.
Все билеты были распроданы, и вполне счастливый Багалей попросил меня обождать еще несколько минут только для того, чтобы можно было продать последние приставные места, так как наплыв народа продолжался. Вскоре и эти места были заняты. Многие не попали на лекцию. Дальнейший вход был прекращен, и меня пригласили в зал. Эстрада, по которой я в него вступил, была сплошь занята профессорами, так что я с трудом пробирался мимо них к своему месту. Как только меня заметили, поднялись рукоплескания, сперва редкие, а затем сильные и дружные. Я стал у кафедры, положил на нее свою брошюрку, надел pince-nez и сразу с досадою убедился, что кафедра слишком низка и что текст лежит слишком далеко от моих глаз. Но рукоплескания еще продолжались. Я посмотрел в публику, готовясь к вступительной фразе. Передо мною чернела толпа во всю глубину зала и на балконе хор. В первом ряду молоденькая дама, с тонкой талией, в черном шелковом платье с белыми полосками, аплодировала мне в перчатках, очень приветливо, с благородною сдержанностью. Тем временем я успел найти нужный звук для первых слов и, выждав затишья, начал свое чтение внятно и просто. Тишина и внимание были тотчас завоеваны, и все прошло благополучно до самого конца. Я видел, что никто ни на минуту не испытывает скуки. Поэтому заключение лекции далось мне легко, с приятным предчувствием, что все мои слушатели остались довольны. Действительно: мне аплодировали горячо, в несколько приемов, так что я должен был трижды выйти на эстраду для неловких раскланиваний, с необходимою в этом случае и непонятною для меня самого улыбкой на лице.
Я сбыл свою лекцию!.. Мои глаза были утомлены, во рту у меня было сухо, но в то же время я был доволен своею усталостью. Я оставался в задней комнате, на диване, слушая похвалы… Ко мне вошла сестра – милая и радостная. Профессор Багалей пригласил нас к себе на чай. Толпа еще гудела вокруг, но уже можно было собираться к выходу. Нам подали шубы, и я с сестрою вдвинулся в массу народа. Я шел позади сестры, все с тою же усталостью на глазах. Мы уже спускались по ступеням лестницы, сжимаемые со всех сторон, когда сестра, обернувшись ко мне, шепнула: «Посмотри, ведь вся эта публика – это ты!»
Но вот этого именно я вовсе не испытывал. Я думаю, что каждый, кто сколько-нибудь побывал на виду, никогда не чувствовал того, что о нем воображают другие. Никто никогда не наслаждался с спокойною совестью и в полной мере ни своею известностью, ни своею славою, ни даже своим величием. Каждому должно было казаться, что все, к чему он сделался сопричастным, создалось как-то помимо него, самою жизнью, и что сам он, внутри себя, остается ничтожным.
Кстати, вспоминаю, что в октябре этого же года я добыл билет на осмотр Зимнего дворца (Николай II жил тогда в Царском). В пасмурный и свежий день мы пошли туда с моим маленьким сыном и его гувернанткой. Мой мальчик заинтересовался только моделью одного парохода в Белой зале, где были собраны все подарки, поднесенные новой императорской чете, и после обхода всех комнат заметил: «Почему это везде изображено столько сражений?» Это было действительно преобладающее впечатление из всего, нами виденного в Зимнем дворце. Но я с любопытством осматривал комнаты Александра II и особую половину его жены. Мы видели рабочий кабинет императора, где помещалась и его спальня, в узеньком и темном отделении за перегородкою с двумя арками: позади этой перегородки, в простенке между арками, стояла его железная кровать, на которой он и скончался. На простыне, под одеялом, сохранились черные пятна крови. В этом застенке, составлявшем спальню, все было чрезвычайно неуютно. Параллельно кровати, очень близко против нее, стоял стеклянный шкаф с разными образцами военных форм. В темной нише виднелся киот с образами и горящею лампадкою, а возле висели портреты умерших детей государя и два простеньких платьица его покойной маленькой дочери. В кабинете, на разных столиках, были разложены скомканные, но свежие батистовые платки: камер-лакей объяснил нам, что государь, страдавший бронхитом, всегда приказывал заготовлять ему эти платки. Письменный стол был весь обставлен семейными фотографиями. Здесь же лежали на подносиках всевозможные ножики, ножницы, карандаши, ручки для перьев, очки, резинки, стеклышки и прочие невзрачные вещицы, составлявшие, очевидно, любимую рухлядь состарившегося человека, сделавшегося рабом своих привычек. На пепельнице, в стеклянном футлярчике, была сохранена недокуренная папироса, оставленная тут государем в день смерти. Нам показывали и чрезвычайно старое генерал-адъютантское серое пальто с красною подкладкою и засаленными погонами, в котором Александр II всегда работал. В соседнем, более просторном кабинете, где принимались министры, – на обширном столе, покрытом зеленым сукном, – хранилось перо, которым подписано освобождение крестьян.
Половина государыни Марии Александровны находилась в другой стороне дворца. В более сохранном виде осталась только ее спальня, величественная темно-синяя комната, выходящая окнами во двор. Все в ней было под один цвет: и балдахин над широкою кроватью, и полуоткинутое одеяло, и просторные мягкие диваны, и грандиозные пустые столы, покрытые темно-синим сукном. На столике подле кровати, в стеклянном бокале, торчал тощий букетик, состоявший из одной розы и веточки ландыша, сохраненный с помощью какого-то известкового состава. Это был последний букетик, заготовленный для государыни, по ее всегдашнему обыкновению, и поставленный перед нею в день ее кончины. Кровать, как нам говорили, с того дня осталась нетронутою. На этой самой простыне государыня умерла. Спертый воздух стоял в этом нежилом, заброшенном углу дворца. Память о бабушке теперешнего молодого императора, казалось, уже ни для кого не представлялась особенно интересною. Я вспоминал эту высокую, стройную государыню, с худощавым изящным лицом и туманными глазами, вспоминал ее портреты в молодости с жемчугами на тонкой шее, с очаровательными покатыми плечами и породистыми, словно выточенными руками – я еще видел пред собою ее морщинистое, совсем высохшее в последние годы лицо, окаймленное сложною прическою из мелких буколек, и чувствовал, что в этой пустой комнате все ее прежнее величие для меня совершенно исчезает. Ни лейб-казак на запятках ее кареты, ни церемониалы, сопровождавшие всю ее жизнь, ни ее портреты в короне и порфире не могли теперь разуверить меня в том, что это была самая обыкновенная женщина.
Между тем перед нами продолжали чередоваться различные залы Зимнего дворца. Это был не дом, а самый обширный в России храм, воздвигнутый человеку, – с его престолом и со «священными изображениями» божественного семейства. В одном из громадных коридоров мы натолкнулись на бесконечный ряд драгоценных обстановочных вещей, сложенных на полу: вазы, люстры, канделябры и т. п. были расположены на паркете в две линии. Все это было собрано из разных дворцов для того, чтобы Николай II с своей женой выбрали из этой массы то, что им понравится. В то время заново отделывалась часть дворца для молодых супругов. Тут же, в коридоре, лежали целые штуки плюшевых ковровых материй для обивки полов. Вокруг нас суетились рабочие. Рассматривая все эти вещи, я на что-то наткнулся и в то же мгновенье камер-лакей поспешил с тревогою предостеречь меня: «Будьте, барин, осторожнее… нельзя наступать на трон». Я обернулся и увидел на полу, вблизи моего сапога, часть разобранных дощатых ступеней, над которыми трудился какой-то обойщик, натягивая на них новое сукно. Я невольно удивился такому богопочитанию! И все-таки я сознавал, что если бы я был царем, то, внутри себя, я считал бы, что все это богопочитание относится не ко мне, а к чему-то вне меня, – к России, к нашей русской жизни… И, конечно, каждый император, с таким же точно чувством, проезжает мимо любопытной и кричащей толпы, мимо флагов и ковров на домах, мимо своих бюстов на окнах магазинов и мимо всех волшебных огней иллюминации с его вензелями.
В маленьком виде испытывал то же самое и я, спускаясь с моей сестрой среди толпы по лестнице Харьковской Думы после моей лекции. Вся эта суета возле шуб и щебетание молодых голосов – все это была недоступная мне, чужая жизнь – и ничего более…
Из Харькова я возвратился домой почти перед рождественскими праздниками. Эти зимние праздники обыкновенно вызывают во мне молчаливую и покорную тоску. Среди них проходят день моего рождения и день Нового года – два зловещих столба, мимо которых я стараюсь пробираться, зажмурив глаза. На этот раз Новый год начался незаметно и гладко. Все продолжалось по-старому, что я уже считаю верхом благополучия. Но в марте я простудился, и мои давнишние невралгические боли ожесточились с угнетающим упорством. Врачи посоветовали мне брать покамест электрические ванны в Еленинской больнице, а затем непременно отдохнуть летом на каком-нибудь прохладном морском берегу, например, возле Риги. Но чужие болезни никому не интересны…
Страннее всего было то, что с своим болящим телом я мог – и притом должен был – ходить, выезжать, работать. Мне предстояла поездка в Царицын. Я взял на себя защиту молодого судебного следователя, который выстрелил в старого товарища прокурора, вовлекшего его неопытную, почти не знавшую людей жену в какие-то развратные, похотливые отношения во время продолжительного отсутствия мужа. Заседание было назначено на 3 мая. Ванны несколько поправили мое общее состояние, но боль сосредоточилась в горле. Малейшее движение воздуха усиливало эту боль, а весна вышла ветреная и холодная, – даже мало похожая на весну. Но я собрался в Царицын и рассчитывал, что на обратном пути мне удастся посмотреть на коронационные торжества в Москве, так как въезд царя в Москву был объявлен на 9 мая, а коронация на 14-е.
Чуть ли не с осени минувшего года начались заманчивые возвещения в газетах о предстоящей церемонии. С середины зимы в объявлениях целые столбцы начинались с крупных слов: «На коронацию»; все московские домовладельцы предлагали внаймы свои помещения. Интерес к зрелищу возрастал по мере того, как столько народу жадно стремилось в Москву. Об остановке в гостинице нечего было и думать. Казалось, что, пожалуй, не найдешь ни одного свободного уголка. Но мне все-таки удалось обеспечить себе приют в квартирке одного молодого одинокого адвоката на Арбате. Его чистенькое помещение состояло из гостиной, кабинета, столовой, спальни и особой комнатки прямо из передней, которая была предоставлена мне. Вся мебель и вещи были новые, аккуратные, удобные. Хозяйством заведовала горничная Ариша, лет сорока, высокая брюнетка с услужливыми манерами, певучим говором и с видом попечительницы над молодым барином. Проездом в Царицын я провел сутки в этой квартирке и успел с нею освоиться. Мельком взглянул я на воздвигавшиеся во всех концах города деревянные украшения улиц, фонтанов, площадей и домов, на жерди с гербами, на полураскрашенные пирамиды, на декоративные стены – и затем, как только отъехал от Рязанского вокзала, погрузился в заботы о моем деловом путешествии. Горло болело невыносимо. За окнами вагона стояла стужа.
В середине следующего дня мы проезжали по «Земле Войска Донского». Я никогда раньше не бывал в этих местах и невольно вспомнил географическую карту, по которой учился, с печатным названием этой области, обведенной розовой краской вблизи червеобразного Каспийского моря. Сквозь окна были видны разливы рек. Целые леса, еще голые, купались в мутно-желтых, холодных волнах. Но эти картины при хмуром небе не давали представления о весне. С высокой насыпи, по которой мы неслись, грязная вода, бурлившая вокруг сухих деревьев, казалась мне простою неопрятностью природы в ненастное время. Неужели я перестал чувствовать прелесть разлива!
В нашем вагоне было всего два пассажира: крепкий высокий старик лет за шестьдесят, со стриженой головой и длинной бородой, в тужурке и сапогах бутылками, и бледный, но тоже высокий офицер в казацкой форме. Старик был очень бодр и выбегал гулять по платформе почти на всех станциях в одной тужурке, оставляя меховой архалук на своем диване. А офицер оставался все время на месте, большею частью лежа или полусидя и подпирая рукою свою усталую голову. Я узнал, что он несколько раз падал с лошади на учениях и настолько разбил себе грудь, что теперь едет на родину, как почти негодный. Итак, я видел пред собою старость и молодость: нечего было жаловаться на судьбу!
Дорога была скучная. А мне предстояло проделать ее еще и на обратном пути! Только к часу ночи я попал в Царицын. Меня встретил подсудимый. Гостиница находилась очень близко от вокзала. Мне был приготовлен просторный номер с перегородкою для спальни, и я, совсем усталый, поторопился улечься в постель.
Следующий день (воскресенье) был совершенно ясный и почти жаркий. Перед моими окнами расстилалась громадная зеленая площадь, окаймленная невысокими каменными строениями. На правом углу стояло двухэтажное кирпичное здание Земской управы, где, как мне объяснили, должно было происходить судебное заседание. Я вышел с своим клиентом, чтобы побриться, а затем купить на завтрак зернистой икры. У парикмахера мы застали двух наших свидетелей, только что приехавших из Астрахани к завтрашнему заседанию. Это были друзья подсудимого – городской полицейский врач и советник губернского правления, оба – веселые и цветущие люди, хотя первый приближался к пятидесяти годам, а второй имел полные шестьдесят. Врач, коренастый мужчина с седеющими пышными бакенбардами, стриженой, почти лысой головой, серыми глазами и красненьким носом, говорил очень быстро, негромким, смеющимся голосом и имел вид провинциального бонвивана, доброго и надежного товарища во всякой пирушке и всякой беде. Советник Губернского правления, из разорившихся помещиков, смотрел настоящим барином. Высокий, плечистый, упитанный, с темными живописными глазами, правильным носом, с русской прической каштановых волос без седины, с круглой бородой и густыми усами, – он казался мужчиною «в самом соку». Впрочем, только усы у него были несколько светлее бороды, да еще при разговоре слышался недостаток зубов. Я обменялся несколькими фразами с этими господами и отложил ближайшее знакомство с ними до обеда.
Позавтракав у себя в номере зернистою икрою, которая была немного дешевле, но не лучше петербургской, я еще раз прилег отдохнуть и, когда встал, то решил в ожидании обеда погулять. Недалеко от гостиницы, если взять по площади направо, оказалась широкая и длинная улица с бульваром. Вход на бульвар, как всегда в провинции, был загражден вертящимся деревянным крестом. Желтая земля горбом возвышалась посредине аллеи и была вся испещрена просохшими следами ног. Солнце минутами грело совсем по-летнему, но довольно сильный ветер то и дело откуда-то срывался и нагонял холодок. Нега весны уже млела в воздухе. Кое-где показавшиеся прохожие гуляли без верхних одежд. Все они ходили одиночками и переступали медленно, занимаясь, по-видимому, созерцанием природы и вдыханием воздуха. Иные присаживались на скамейки, другие мечтали на ходу, намеренно задерживая свои шаги. Мне встречались только простые люди: мещане или мелкие чиновники. Я сел на скамейку и подставил свое лицо веселому, сильному солнцу. Бульвар был почти пуст. Если попадалась новая людская фигура, я ее прослеживал, пока она не исчезала. Между тем время приблизилось к обеду. Я встал и тотчас же завидел издалека тоненькую, как будто изящную женщину, шедшую мне навстречу. Приближаясь к ней, я различил черное шелковое платье со шлейфом. Вокруг шеи был вырез с белыми кружевами. Над головой колебался нарядный зонтик. Из-под него на меня взглянуло тощее молоденькое лицо с черными выразительными глазами, и когда мы поравнялись, меня обдало запахом пудры. Запыленный шлейф прошумел угловатыми взмахами от порывистой, нервной походки. Это была актриса! Нечего было и сомневаться. Вероятно, – хрупкий сосуд страсти… Но какою музою она мне показалась в этом тупом Царицыне!
Обед был назначен на вокзале железной дороги, в зале первого класса. Выбран был самый глухой час, когда зала совершенно пуста. Для нас накрыли круглый стол возле одного из широких окон. Здесь я встретил моего клиента с его молоденькой женой, советника с его старою супругою, привезенною из Астрахани, и доктора. Супруга советника была высокая и довольно тонкая седая дама с институтскими манерами, улыбающаяся и говорящая с небрежной грацией. Жена подсудимого, из-за которой и возгорелось дело, все время молчала. Это была низенькая женщина с темно-русыми волосами, остриженными в скобку, и продолговатыми синими глазами. Круглая черная шляпка совсем закрывала ее низкий лоб. Кожа лица и шеи была у нее необыкновенно нежная. Она имела пришибленный, виноватый вид. Если и улыбалась, то безучастно, из приличия. Но когда на нее не обращали внимания, она чуть приметно, как бы про себя, вздыхала. Обедом распоряжался доктор. Благодаря его совещаниям с поваром и буфетчиком, мы имели прекрасную стерлядь и довольно сносное вино. Беседовали непринужденно, как будто никому из присутствующих никакой беды не угрожало. О предстоящем процессе упоминали вскользь, как о забавном поводе, соединявшим нас за этим столом, – не более. А между тем завтра – суд…











