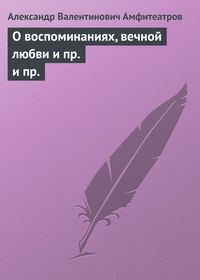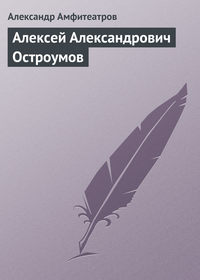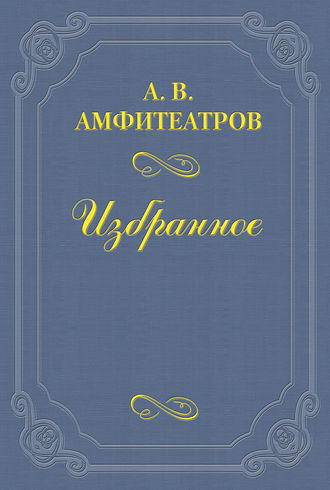 полная версия
полная версияОтравленная совесть
Убить себя?.. Но слишком страшно было недавнее зрелище насильственной смерти, слишком тяжелою раною запечатлелось оно в сердце Людмилы Александровны: раньше ей не случалось видеть близко, как умирают, и процесс смерти исполнил ее ужасом, когда она убедилась на деле, как легко осуществляется, как близко стоит смерть к человеку, точно выжидая у судьбы дозволения и сигнала на него наброситься. Взмах руки, и нет живого существа, остается труп… И все кончено!
Кончено ли?.. А там… дальше? Темно там. Что будет в грозной темноте? Пустота? Уничтожение? Ни движения, ни мысли?.. А если нет? Если и точно – Бог? в самом деле – суд и новая жизнь души, без тела, но с земною памятью, со всеми успевшими отразиться в ней земными страхами и впечатлениями, жизнь проклятой среди проклятых, жизнь призрака среди призраков, в обществе того – убитого ею и отверженного, как она? Людмила Александровна – всегда верующая – в первый раз, однако, поняла вполне, всею душою, насколько сильна в ней вера в Бога, теперь – когда вообразила себя перед Его судом и ужаснулась его.
И жить страшно, и страшно умереть. Смерть кажется то избавлением от страданий, забвением земли, то, наоборот, лишь первым шагом к истинным мукам, лишь началом наказания за прожитое земное, не более как порогом настоящего, высшего возмездия, – а теперь еще, здесь, по сю сторону порога, тянется пока подготовка к нему, здесь только преддверие… И если так мучительно стоять в этом преддверии, каких же грозных тайн ждать, когда откроются пред нею самые двери?
Колеблясь в волнениях – то готовая и счастливая умереть, то боясь смерти, как непостижимого прожорливого чудовища с черною, широко разверстою в жадном ожидании пастью, Людмила Александровна сама не знала, вставая утром с постели, будет ли она жива к вечеру; ложилась в постель ввечеру, не уверенная, что «одр не станет ей гробом». Жажда смерти подсказывала ей десятки планов, как легче, хитрее, искуснее убить себя, а жажда жизни горячо и насмешливо оспаривала все планы, доказывая их нелепую прозрачность: как все догадаются, из-за чего она покончила с собою, как выяснится связь между смертью ее и Ревизанова, и будет опозорена ее память, и на семью ее все-таки ляжет то самое пятно, от которого с таким самоотвержением защищала ее Людмила Александровна, чтобы избежать которого она и убила Ревизанова… И все-таки чем дальше длилась борьба, тем чаще и яснее победа оставалась за приманкою смерти. Так в зверинце кролик, брошенный в клетку боа, цепенеет под его взглядом и – любя жизнь – против воли тянется, однако, весь дрожащий, к чарующему его змею, упирается, но идет к нему – с отчаянием, шаг за шагом, пока не исчезает в его голодной пасти. Из всех планов воображение Людмилы Александровны приковалось сильнее всего к одному: возвращаясь в Москву, она постарается, на ходу поезда, упасть под колеса так, чтобы все приняли ее падение за несчастный случай, чтобы не возникло никаких толков о самоубийстве. До отъезда оставалось двое суток. Страх смерти не смягчался в сердце Верховской: оно было стеснено, словно совсем перестало разжиматься. Но решимость умереть держалась твердо. Загробная бездна и пугала, и манила – но уже больше манила, чем пугала…
XXII
Поздно вечером, в канун отъезда Людмилы Александровны из деревни, Елена Львовна получила залежавшиеся на станции московские газеты.
– Ах, какой ужас! Чем кончил! Чем кончил! – воскликнула она, едва развернув «Русские ведомости» и просматривая первую же заметку московской хроники.
– В чем ужас? Кто кончил? – хрипло отозвалась Верховская, едва шевеля побелевшими губами: она поняла, что тетка нашла что-нибудь о смерти Ревизанова…
Елена Львовна прочла вслух довольно подробный отчет… У Верховской застучало в висках: отчет показался ей – подробно знающей, как в действительности было дело, – вдвое обстоятельнее, чем составил его репортер. Преступление считалось несомненно преднамеренным – газета называла его «тонко обдуманным делом ума и рук, закаленных в привычке к преступлению».
«Я пропала! Как много они уже знают! столько нитей оставлено, чтобы узнать все остальное!» – думала Верховская, страдальчески хмуря темные, мрачно сведенные одна к другой брови.
– Как ты бледна! – заметила Елена Львовна, передавая племяннице газету, – да и как не побледнеть?! Словно призрак из старого, забытого прошлого пронесся перед глазами. И в какой обстановке! Это страшно, Людмила! Дурной он был человек, а все же жаль… Упокой Господь его грешную душу! А земле он больше ничего не должен: за все расплатился своею кровью…
Верховская не слушала, приковавшись глазами к postscriptum'у отчета.
«Подозрение лиц, близких покойному, предугадывает виновницу этого, небывалого по дерзости, убийства в особе, довольно известной кругу наших спортсменов, как звездочке, одновременно освещающей горизонты местного цирка и demi monda»[22]… Особа эта пользовалась до последнего времени благосклонностью покойного, но за несколько дней до убийства между ними произошла крупная ссора, завершившаяся полным разрывом. Таким образом, мы, по-видимому, имеем в перспективе дело с интересною романической подкладкой. Подозреваемая узнана швейцаром отеля и уже арестована.
Итак, за нее может ответить другая женщина? Стоит ей промолчать, и эта… кто она? Верховская даже имени не знала, кого судьба бросает, вместо нее, под меч закона! – и эта незнакомка займет ее место на скамье подсудимых. Как все удобно и хорошо слагается! И снова, впервые после ночи убийства, – несчастной, безумной, преступной женщине вздохнулось широко и легко, точно волна в нее хлынула!.. Но вздохнула – и задохнулась вздохом… Молчать? Но ведь теперь молчать будет новым преступлением и хуже, в тысячу раз хуже первого. Ревизанова она убила по праву… нет, не по праву: права убивать ближнего нет у человека… Но если не по праву, то по естественному инстинкту – в отмщение за злую вину – и какую! Больше чем он, не может быть виноват мужчина перед женщиною.
«Он нападал – я защищалась. Он сулил сделать мне всякое зло, на какое способна любовь, обратившаяся в ненависть, и сделал. Он осквернил меня, поработил, оторвал от семьи, от детей… Его стоило убить, да и то я убила, лишь выведенная из себя до последнего, лишенная всякого самообладания, не помня себя, в отчаянии, потеряв самосознание, почти озверенная… А тут… сознательно предать на суд, позор и, может быть, осуждение невинную! Я даже не знаю, я никогда не видала ее, я даже имени, имени ее не знаю! Послать на страдание первую встречную – хладнокровно, без всякой вражды и злобы… Только потому, что пусть лучше другая страдает, чем я… Какая гадость! Какой жестокий звериный эгоизм!»
И то стыд делался в ней сильнее страха, то страх сильнее стыда. Она, как герой скандинавской сказки, стояла в бессильном раздумье, слушая, как две птицы – черная и белая – поют ей песни: одна злую, другая добрую; одна – учит самосохранению, другая – долгу и человеколюбию. Черная птица ей пела:
– Завтра ты умрешь… Страшнее смерти нет ничего на свете, но и у нее есть доброе качество: она все заглаживает и искупает. Кто умер, тот прав. Ты умрешь и тоже будешь права: ты расплатилась за себя. Неужели ты думаешь – твоя смерть недостаточная цена для выкупа и прежнего, и нового позора? Ведь не убьют же ее, эту незнакомку: ну, накажут, сошлют, да и то еще объяснят убийство ревностью, аффектом, смягчат приговор, пожалуй, еще совсем оправдают… Да если и осудят, все-таки жизнь-то, жизнь ей останется, жизнь, что всего дороже; а ведь ты умрешь. Неужели этого мало? Полно! это самоискушение! это бред!
Белая птица возражала:
– Все так. Но зачем же ты сама-то предпочитаешь даже смерть той жизни, какая ждет эту несчастную? Зачем тогда умирать: живи, как придется жить ей, и наслаждайся этой жизнью. Или, по твоему суждению, жизнь бесчестная для тебя – годится для нее? Ведь она – пишут газеты – падшая: камелия, самка, тварь… И вот ты, счастливая преступница, ты умрешь «от случая», оплакиваемая, уважаемая, тебя похоронят с честью, незаслуженные похвалы и лесть раздадутся над могилой. А вся грязь, весь позор и ужас твоего дела, должные поразить тебя и только неправым счастьем, случайной, фальшивой подтасовкой обстоятельств отвлеченные от твоей головы, обрушатся на ту невинную? Ну что же? спасай себя и убивай ее! ей ведь все равно – не привыкать к позору. Она камелия, самка, тварь – что ей? уж заодно пусть идет и в каторгу… так ведь? не правда ли? И ты еще судишь! ты, продажная, как и она! ты… убийца.
XXIII
Людмила Александровна изменила свой план. Она села в вагон с твердым решением: «Я убью себя, но сперва объявлю свое преступление».
«Куда же идти мне? – размышляла Верховская, стоя в ожидании своих вещей, попавших в руки довольно неповоротливого артельщика, на платформе московского вокзала. – К судебному следователю. Кто он и где он живет?»
Она не знала.
Просто взять и подойти к первому городовому или вот хоть к этому бравому жандарму в медалях, который так важно и сурово расхаживает по платформе, и объявить ему: я убийца. Он, конечно, отведет ее в участок, но прежде поднимется шум, сберется народ.
Каин сказал Богу: «От имени Твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». В Людмиле Александровне проснулось наследие Каина: родился обычный недуг преступников – страх людей. Она живо вообразила: народ, при слове «убийца», озлобится, бросится на нее, станет бить – как знать, – пожалуй, истерзает, разорвет на куски… А то другое: ни городовой, ни народ не поверят ей, сочтут ее пьяною или сумасшедшею, будут глумиться, хохотать. Нет! все, кроме уличной сцены; все, кроме толпы-свидетельницы! Еще она боялась, что, если ей не поверят по первому признанию, у нее недостанет духа повторить его еще раз, – кроме личного признания, у нее нет улик на себя, и ее отпустят со срамом и советами лечиться. Ведь каждый раз, когда оглашается громкое преступление, находится столько мнимых преступников, воображающих, будто именно они-то его и совершили. Затем: если ей поверят и арестуют ее, как избегнуть суда? Как исполнить задуманное самоубийство? Ее посадят в одиночную, под караул: там не добыть ни ножа, ни револьвера, ни яду, ни веревки. Голодом разве покончить с собою? А хватит ли энергии на такую пытку? Эта желанная смерть так грозна: мигом, закрыв глаза, очертя голову, можно – хоть и с отчаянием в сердце – броситься в ее объятия. Но смотреть ей в лицо день за днем, из часа в час, из минуты в минуту… нет, недостанет сил!
Артельщик привел Верховской извозчика. Она нерешительно села в сани и задумалась.
– Куда прикажете ехать? – нетерпеливо спросил извозчик.
Людмила Александровна сообразила, что он спрашивает ее уже не в первый раз, а она, в рассеянности, не отвечает, сконфузилась и заторопилась, – с губ ее сорвался адрес ее квартиры.
Дома никого не было, кроме прислуги. Степан Ильич еще не приходил из банка, дети учились.
Верховская одиноко бродила по пустой квартире, и все страшнее и страшнее становилась ей судьба ее, и жалость утратить дар жизни кралась в ее сердце тоскующею и ласковою змейкою. Она вошла в детскую; здесь каждая вещь наводила ее на воспоминания. Вот эту чернильницу подарила она Лиде, когда та перешла из седьмого класса, эту куклу – Леле, на именины. Как девочка была рада! Забыла, что уже хочет казаться взрослою барышней, – ей тогда исполнилось тринадцать лет, – кричала, прыгала, как коза…
Кабинет мужа, изящная, уютная комната… Восемнадцать лет тому назад Людмила Александровна, войдя в дом молодою хозяйкою, сама распорядилась здесь размещением мебели, книжных полок, картин, и Степану Ильичу так понравились устроенные женою уют и порядок, что ни одна вещь в этом красивом гнездышке не переменила своего места с того времени; что ветшало – поправлялось или заменялось новым, но порядок оставался тот же. Все те же декорации счастья, а самое счастье разбито; все то же тело, все те же формы домашнего кумира, хотя одушевлявшая его добрая сила угасла и померкла, ласковый гений любви и покоя отлетел.
Привычная атмосфера семейной тишины, довольства и мира охватила Верховскую и своею мягкою прелестью гнала из души суровую решимость.
«Восемнадцать лет создавать себе счастье, создать и самой разрушить его! Ужасно!.. Ужасно!.. За что?!»
Часы указали Людмиле Александровне близость возвращения мужа и детей.
«Господи! Вот они вбегут в комнаты… обрадуются, зашумят, а я первым словом в ответ на их ласки: прости меня, Степан! простите, дети! Я опозорила вас, я – убийца Ревизанова!.. Побледнеют розовые личики детей, умолкнет резвый смех. „Мама! мама! Что ты с собою, что ты с нами сделала?!“ И опять – за что? за что?»
Закрыв глаза, она все-таки продолжала мысленными очами видеть перед собою их – свою семью; они разбежались от нее, прижались по углам, и она стоит одна, среди кабинета, бессильная, покинутая, жалкая.
«Но ведь будет всего один миг страдания: выстрел вот из этого револьвера, что лежит на столе у Степана Ильича, и я еще не успею оценить своего несчастья и сиротства, а пуля уже пробьет мое сердце: я не промахнусь…
А если промахнусь? Если затем последует не смерть, а только болезнь? Преступная и больная! Разбитая душа в разбитом теле… Отравленная совесть в израненной груди! Нет, лучше покончить теперь, без детей; спокойно, не торопясь, написать записку Степану Ильичу и…»
Она взялась за перо и снова оставила его, обуянная новым сомнением. Сомнения нарождались так быстро, в такой частой смене, и овладевали ею так повелительно, что она терялась – которое из них слушать. Едва нарастало одно, как из-за него уже выдвигалось черною тучею другое – и закрывало первое, заставляя забыть о нем своею новою внушительною важностью.
«А если они не поверят мне? У меня нет доказательств на себя. Теперь в ходу объяснять всякую странность аффектом, внезапным острым помешательством. Наконец, если и поверят, кто поручится мне – даст ли Степан Ильич ход записке, захочет ли он принять позор на свое имя? Он человек гуманный, честный, но – разве я не скрыла бы его преступления, будь он на моем месте? А ведь и про меня говорили, что я гуманная и честная!.. Уничтожить клочок бумаги недолго и нетрудно, и тогда та несчастная…»
Дети пришли.
Они ворвались, как и ожидала Людмила Александровна, шумно, радостно. Леля кричала: «Мама! Мама! Милая! солнышко!» – и висла у матери на шее. И мать инстинктивно прижимала ее к своему сердцу.
«Я мараю ее своим прикосновением! – скользнула ядовитая мысль в ее уме, но другая ответила: – Ну и пусть мараю, но я слишком ее люблю, я не властна не ласкать ее».
И она не оттолкнула девочку от себя и, осыпая ее ласками, одно мгновение ничего не помнила, кроме этих детей и долгого счастья, какое до сих пор давали они ей, а она им. А когда она опомнилась от восторгов первой встречи, было уже поздно. Она снова испытала на одну минуту, чем сладка жизнь, и радость семьи заглушила в ней голос справедливости. Долг смерти ушел куда-то далеко – во мрак, его породивший. Жизнь победила.
XXIV
Леони доказала свое alibi, и ее оставили в покое. Это отчасти умиротворило совесть Людмилы Александровны. Оставалось жить.
Жить – для семейного счастья, едва не ускользнувшего от нее. Она успела удержаться за край его – успела ценою малодушия, подлости, едва не перешедшей в новое преступление. Теперь надо было сберечь его. Оно могло рухнуть только с раскрытием тайны убийства. В относительно спокойные, рассудочные минуты, взвешивая свое положение, Верховская обстоятельно доказывала себе, что, если она сама не выдаст себя, убийство Ревизанова останется навсегда загадкою. А между тем тайная боязнь быть выслеженною всегда жила в ней, и охранение себя от этой опасности стало господствующею идеею всей ее жизни. Не судили люди – она судила себя сама. Не уличал суд – сама себя уличала и казнила. Кто-то сказал: если человек хочет сделать свою жизнь постылою, пусть наполнит ее, вместо всякого другого содержания, трепетом за свое существование и заботами самосохранения. Людмила Александровна тяжелым опытом проверяла справедливость этой мысли.
Подобно тому, как раньше преступление отравило ее прошлое и лишило ее воспоминаний, теперь оно мстило ей уже и в настоящем, просочившись незримым ядом в каждую подробность ее жизни. Вначале она ни словом не заикалась об убийстве, ставшем надолго и прочно предметом толков всей столицы; но когда она бралась за газету, она думала: «Нет ли новых известий по моему делу?» Когда спрашивала гостя: «Что нового?» – она и боялась, и ждала слышать новый акт или хоть явление следственной драмы. И если ей удавалось разузнать что-либо, ее воображение начинало работать над дальнейшими шагами следствия, вкрадчиво лепя сцену за сценой, подробность за подробностью. Так как она знала весь ход дела с начала до конца, то инстинктивно подсказывала себе эти шаги и терялась при сознании кажущейся легкости, с какою, по-видимому, раскрывалось преступление. Она забывала, что следователь, если даже попадет на прямой путь, как она сама вела розыск в своем воображении, все-таки будет идти по нем с закрытыми глазами, на ощупь, и – сто шансов против одного, что ничего не добьется.
Она почти не спала. «Макбет зарезал сон, души отраду, но с этих пор не спать уже Гламису, не спать убийце». Целые ночи пролеживала она навзничь, с широко открытыми во тьме глазами, и перед нею мелькали то призраки кровавого прошлого, то неутешительные образы будущего. К утру она доходила до такого возбуждения, что, проснись Степан Ильич и спроси жену: «Отчего ты не спишь»? – Людмила Александровна рассказала бы ему все. Но он не спрашивал, а только жалел ее за бессонницу да советовал лечиться.
Она начала интересоваться чужими преступлениями, потому что хотела знать, как вели себя другие в ее положении. Она перечитала десятки уголовных процессов. Везде и всегда убийцы запутывали свои следы, как могли и умели, и все-таки их выслеживали, судили, карали. Она читала дела, обставленные настолько ловко, что ее преступление казалось детски простым в сравнении с ними, и все-таки герои этих дел шли на эшафот, на галеры, в каторгу – и чем больше читала, тем более уверялась она, что и ее рано или поздно откроют.
Елена Львовна, в бытность Людмилы Александровны в деревне, заметила своим материнским оком, что с племянницею творится что-то недоброе. Замечали это и домашние. В письмах от Верховских Елена Львовна читала неясное недовольство чем-то – словно все смущенно скрывают нечто непривычное и неприятное.
– Перессорились они там, что ли, все? да из-за чего им? – недоумевала старуха. – Или, сохрани Бог, не худо ли пошли дела у Степана Ильича?
Не желая мучиться беспокойством за близких и любимых людей, она собралась – кстати, надо было и по делам – в Москву.
Дом Верховских она застала действительно в полном расстройстве – точно обезматочивший улей. Поведение Людмилы Александровны в последние дни было настолько необычно, слова ее и действия носили неизменный отпечаток такой раздражительной и беспричинной нервности, что муж и дети начали подозревать в ней серьезную, если не психическую, то нервную, болезнь.
– И давно, Лидочка, началось это? – пытала Елена Львовна старшую дочку Верховской.
– С того самого дня, как мама вернулась от вас, бабушка. Она приехала с вокзала и никого не застала дома: мы с Лелей были в гимназии, Митя тоже, папа на службе, в банке. Приходим, – обрадовались, стали ее целовать, обнимать, тормошить, и она тоже рада, целует нас, а потом бух!.. упала на ковер: истерика! хохочет, плачет, говорит бессвязно… Больше двух часов не приходила в себя… Раньше этого никогда не было.
– В детстве случалось, – задумчиво заметила Елена Львовна, очень удивленная тем, что слышала: так мало было это в характере Верховской. Ей случалось много раз видать Людмилу Александровну в трудные и печальные минуты ее жизни: когда опасно болели дети, когда, после одного колебания бумаг на бирже, Степан Ильич едва не потерял всего состояния, и всегда она поражалась самообладанием племянницы.
– Ты, Людмила, прелесть, когда беда над головою, – говорила она Верховской, – молодец-женщина. У тебя не нервы, а веревки! Жаль, что женщинам не дают орденов, а то уж выхлопотала бы я тебе «Георгия» за храбрость.
Лида продолжала:
– Вот с этого дня и нашло на маму. Ничем не можем угодить на нее: такая стала непостоянная. Приласкаешься к ней – недовольна: оставь, не надоедай; ты меня утомляешь! Оставишь ее в покое – обижается: ты меня не любишь, ты неблагодарная!.. Вы все неблагодарные! Если бы вы понимали все, что я для вас делаю… Неблагодарностью она всего чаще нас попрекает, – а разве мы неблагодарные? Мы на маму только что не молимся… Истерики у мамы каждый день… Но уж вчера было хуже всех дней: досталось от мамы и нам, и папе… И ведь из-за каких пустяков! Митя без спросу ушел в гости к Петру Дмитриевичу. Ах! разлюбила мама, совсем разлюбила Петра Дмитриевича! И в чем только он мог провиниться – не понимаю!.. Встречает его холодно, молчит при нем, едва отвечает на вопросы. А нам без него скучно: он веселый, смешной, добрый… Митя жаловался:
– Намедни, на именины, Петр Дмитриевич подарил мне револьвер, – тоже что было шума!
Елена Львовна улыбнулась:
– Ну, револьвер-то тебе и в самом деле лишний. Еще застрелишь себя нечаянно.
– Помилуйте, бабушка! Маленький я, что ли? Да я в тире пулю на пулю сажаю… Весь класс спросите. И маме известно. Совсем не потому!
– Раньше мама сама обещала ему подарить, – вставила Лида.
Митя подхватил:
– А тут рассердилась, что от Петра Дмитриевича, и отняла.
– В стол к себе заперла, – пояснила Лида. – Тоже говорит, что он себя застрелит.
– А я пулю на пулю… Вы, бабушка, попросите, чтобы отдала. А то я всему классу рассказал, что у меня револьвер… дразнить станут, что хвастаю. Да наконец не век мне быть гимназистом… Какой же я буду студент, если без револьвера?
XXV
Антипатия Людмилы Александровны к Синеву развилась с того дня, как умер следователь по особо важным делам, который первоначально вел дело об убийстве Ревизанова, и оно перешло к веселому родственнику Верховских. Он взялся за следствие горячо и рьяно, но вскоре – бесполезно прогулявшись по нескольким ложным следам – впал в уныние.
– Иссушило меня это проклятое следствие! – жаловался он у Верховских. – Скажу вам: просто фантастическое дело! Ничего с ним не поделаешь: глупо, просто и, именно благодаря простоте и глупости, непроницаемо. Когда убийца хитрит и мудрит, он хоть какие-нибудь следы оставит, хоть в чем-нибудь прорвется. А тут – ничего! какая-то mademoiselle X. Y. Z. пришла, переночевала, воткнула человеку нож между ребер и затем преспокойно ушла. Не только не пряталась, но еще остановилась – дала рубль серебра швейцару. Нашли извозчика, с которым она уехала из гостиницы. И швейцар, и извозчик одинаково описывают ее наружность: Леони, вылитая Леони… И, однако, это была не она! Кто же? Черт знает что такое! Какой-то сатана в юбке или – чтобы быть вежливым с дамами, так как она хоть и прирезала Ревизанова, а все же дама, – скажем: Азраил, ангел смерти, в модной шляпке под вуалем…
– И вы точно потеряли всякую надежду открыть убийцу?
– Решительно. А славный бы случай отличиться. Выслужился бы!
Слова эти больно укололи Людмилу Александровну.
– Выслужиться чужою гибелью, чужим позором! Я считала вас добрее, Петр Дмитриевич! – сказала она, а думала про себя: «Не чужою – моею гибелью, не чужим – моим позором собираешься ты выслуживаться, мальчишка!»
Синев оправдывался:
– Что же мне прикажете делать, если мое рукомесло такое – чтобы «ташшить и не пушшать»… Да где там? не выслужишься! это дело – такая путаница, что сам Вельзевул ногу сломит. Вы поймите: ушла она из гостиницы…
Людмила Александровна гневно остановила его:
– Петр Дмитриевич! вы уже двадцать раз терзали мои нервы этою трагедией… пощадите от двадцать первого…
– Вот! слышите, тетушка, как она меня пиявит? – пожаловался следователь Елене Львовне, сконфуженно разводя руками.
Старуха вступилась за Петра Дмитриевича:
– Милочка! потерпи, сделай милость: пусть расскажет… я-то ведь еще ничего не слыхала, мне интересно.
Синев весело вскочил с места:
– Людмила Александровна! высшая инстанция разрешает: я начинаю. Итак, mesdames, сообразите: ушла она из гостиницы…
Но Людмила Александровна с гневом встала с места.
– Как вы скучны! – И, резко двинув стулом, порывисто вышла из комнаты.
– Теперь уж, тетушка, не я, а вы виноваты… – пробормотал, смущенный этою выходкою, следователь.
Но Елена Львовна заставила его продолжать рассказ.
– Да!.. Ну-с, так вот: ушла она из гостиницы, – точно стакан воды выпила, села в сани – и поминай как звали! Извозчика мы замучили допросами, а толку нет. Довез, говорит, барышню до дома Лазарика на Петровке. Вошла в ворота – и как в воду канула! Двор-то проходной, в нем тысячи три народа живет, и народ все неважный: пролетарии, проститутки. Извозчик так и объясняет. Мы его спрашивали: не показалась ли, мол, тебе эта барышня странною – испуганною, взволнованною, что ли? «Нет, говорит, ничего, я – как дело было по-раннему то есть времени – так полагал, что гулящая… домой от полюбовника едет». Черт знает! иной раз мне становится досадно, что мы так легко отпустили эту Леони. Положим, она-то лично невиновна, но, может быть, есть за нею все-таки хоть какая-нибудь ниточка прикосновенности – малюсенькая, малюсенькая… А мне только бы за что-нибудь уцепиться.