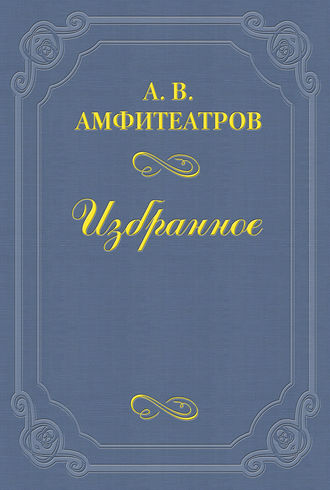 полная версия
полная версияПаутина
– То-то вотъ и есть! Эхъ ты!..
– Ты сегодня нервная какая то, – бурѣя лицомъ, пробормоталъ онъ, – говорить нельзя: придираешься къ словамъ… Кажется, не трудно понять шутку… между своими…
– Ты думаешь? Наивенъ же ты, если не лжешь. Между своими! A Аникита Вассіановичъ мнѣ чужой? Подобныя шутки въ наше время отправляютъ людей на висѣлицы и въ зерентуйскія стѣны…
Симеонъ молчалъ, и по упрямому лицу его Эмилія ясно видѣла, что, собственно говоря, онъ рѣшительно ничего не имѣетъ противъ того, чтобы Викторъ именно въ зерентуйскія стѣны и былъ заключенъ… И было ей и жаль, и противно…
– Глупая сантиментальность! – произнесла она, думая вслухъ, – и за что только я васъ, Сарай-Бермятовыхъ, люблю? Такъ, вотъ, застряли зачѣмъ то вы всѣ въ душѣ моей съ раннихъ годовъ дѣвическихъ… и давно бы пора выкинуть васъ вонъ изъ сердца, какъ изъ вазы букетъ завядшій. A вотъ – не могу, держитъ что-то… Глупая сантиментальность!.. Но – берегись, не злоупотребляй, Симеонъ! не злоупотребляй!
Эмилія Ѳедоровна встала, хмуря, сдвигая къ переносью полуночныя брови свои.
– Ну-съ, – произнесла она рѣшительно и опять какъ бы приказомъ, – время не раннее… Еще разъ спасибо за честь, что вспомнилъ новорожденную, и тысяча эта, которую ты привезъ, – merci, – пришлась мнѣ кстати, a теперь отправляйся: y меня дѣловыя письма не дописаны… A Мерезова ты мнѣ, какъ хочешь, изволь устроить, – иначе поссоримся, это я тебѣ не въ шутку говорю…
– Странная ты женщина, Эмилія! Ну, сама подумай, чего ты отъ меня требуешь? Сама же говоришь, что y него долговъ на пятьдесятъ тысячъ… Что же – прикажешь мнѣ, что-ли, ни за что, ни про что подарить ему стотысячный кушъ: половину на расплату съ долгами, половину на новый пропой?
– Зачѣмъ сразу гиперболы?
– Да дешевле его на ноги не поставить…
– Долги можно и не сразу гасить. Если онъ половину заплатить, то обновить кредитъ и будетъ въ со стояніи жить, a Аникита Вассіановичъ дастъ ему хорошее мѣсто…
– Украсите вѣдомство! – злобно засмѣялся Симеонъ.
– Э! не хуже другихъ!
– Слушай, – быстро заговорила она, поспѣшно, обѣими руками поправляя прическу, что всегда дѣлала, когда оживляла ее вдохновляющая мысль. – Я укажу тебѣ путь къ примиренію… благодарить будешь! И волки сыты, и овцы цѣлы… Слушай: отчего бы тебѣ не прикончить всей этой родственной непріятности въ родственномъ же порядкѣ? Давай женимъ Васю на Аглаѣ… вотъ и сплетнямъ конецъ.
Сарай-Бермятовъ хмуро молчалъ, размышляя. Идея ему нравилась.
– За Аглаей всего пять тысячъ рублей, – нерѣшительно сказалъ онъ. – Какая же она Мерезову невѣста?
– Отъ себя накинешь…
– Да! все отъ себя, да отъ себя!
– Знаешь, Симеонъ: иногда во время подарить единицу значитъ безопасно сберечь сотню.
Тонъ ея былъ значителенъ, и опять Симеонъ почувствовалъ угрозу, и опять подумалъ про себя:
– Вотъ оно!
– Я подумаю, – отрывисто произнесъ онъ, поднося къ губамъ руку Эмиліи.
– Подумай.
– Сомнѣваюсь, чтобы вышло изъ этого что-нибудь путное, но… подумаю… доброй ночи.
– До свиданья… A подумать – подумай… и совѣтую: скорѣй!..
– Вотъ оно! – снова стукнуло гдѣ-то глубоко въ мозгу, когда Симеонъ, мрачный, выходилъ отъ Эмиліи Ѳедоровны и, на глазахъ козырявшихъ городовыхъ, усаживался въ экипажъ свой… – Вотъ оно! Гдѣ трупъ тамъ и орлы…
Съ унылыми, темными мыслями ѣхалъ онъ унылымъ, темнымъ городомъ, быстро покинувъ еще шевелящійся и свѣтящійся центръ для спящей окраины, будто ослѣпшей отъ затворенныхъ ставень… На часахъ сосѣдняго монастыря глухо и съ воемъ пробило часъ, когда, поднимаясь въ гору, завидѣлъ онъ издали въ дому-казармѣ своемъ яркое окно, сообразилъ, что это комната Матвѣя, и, приближаясь, думалъ со злобою, росшею по мѣрѣ того, какъ росла навстрѣчу сила белаго огненнаго пятна:
– Жги, жги, ацетиленъ то, святъ мужъ!.. Горбомъ не заработалъ, не купленный… О, отродья проклятыя! Когда я только васъ расшвыряю отъ себя? Куда угодно… только бы не видали васъ глаза мои, только бы подальше!
VI
За окномъ, позднее освѣщеніе котораго такъ возмутило Симеона Бермятова, происходилъ, между тѣмъ, разговоръ странный и лукавый… Гости давно разошлись. Иванъ, со слипшимися глазами, и Зоя, громко и преувеличенно зѣвая и браня Аглаю, которая не возвратилась съ десятичасовымъ поѣздомъ и, стало быть, заночевала въ дачномъ мѣстечкѣ y знакомой попадьи, – распростились съ братьями и пошли по своимъ комнатамъ спать. Остались вдвоемъ Матвѣй, сѣвшій къ столу писать письма, да Модестъ, – онъ лежалъ на кровати Матвѣя, подъ красивымъ пледомъ своимъ, и, облокотясь на руку, смотрѣлъ на согнутую спину брата горящимъ взглядомъ, злымъ, насмѣшливымъ, хитрымъ…
– Такъ въ ложку меня? въ ложку пуговочника по тринадцати на дюжину? не годенъ ни на добро, ни на яркое зло? Ни Богу свѣча, ни чорту ожегъ? A вотъ посмотримъ…
И онъ лѣниво окликнулъ:
– Матвѣй!
– Что, Модя?
– Какъ тебѣ понравилась нынѣшняя аллегорія остроумнаго брата нашего Симеона Викторовича, иже данъ есть намъ въ отца мѣсто?
– О Рахили?
– Да.
Матвѣй повернулся на стулѣ, держа перо въ рукахъ, почесалъ вставочкой бровь и серьезно сказалъ:
– Я думаю, что, хотя онъ, по обыкновенію, говорилъ въ грубомъ практическомъ смыслѣ, но символъ удаченъ, можетъ быть расширенъ, одухотворенъ… и, въ концѣ концовъ, Симеонъ, въ своемъ обобщеніи, правъ…
– Я того же мнѣнія.
Модестъ закурилъ и нагналъ между собою и Матвѣемъ густой пологъ дыму.
– Этотъ споръ, – сказалъ онъ серьезно, – y насъ, какъ водится, соскочилъ на общія мѣста и, за ними, тоже, какъ водится, всѣ позабыли начало, откуда онъ возникъ… Ты, вотъ, все съ Скорлупкинымъ возишься…
– Да, – грустно вспомнилъ огорченный Матвѣй, – бѣдный парень… грубо и безжалостно мы съ нимъ поступаемъ…
– Ну, положимъ, и дубину же ты обрящилъ, – скользнулъ небрежно аттестаціей Модестъ, закутывая правою ногою лѣвую въ пледъ. – Знаешь, что я тебѣ предложу? Пригласи меня на помощь. А? Отдай своего протеже мнѣ. Я его тебѣ обработаю, – даю слово… въ конфетку! право!
Матвѣй съ укоризною покачалъ головой.
– Послѣ того, какъ ты его сейчасъ самъ назвалъ дубиною?
– А, быть можетъ, именно это то обстоятельство и подстрекаетъ мое усердіе? Это очень гордый и лестный воспитательный результатъ – именно дубину взять и обтесать въ тонкій карандашъ, коимъ потомъ – чернымъ по бѣлому – что хочешь, то и пишешь…
– Я стараюсь дать образованіе Григорію совсѣмъ не для того, чтобы онъ былъ моимъ карандашемъ, – слегка съ обидою возразилъ Матвѣй.
– Да? Я всегда говорилъ, что ты y насъ въ семьѣ нѣчто вродѣ бѣлаго дрозда или зеленой кошки… Почему Симеонъ не показываетъ тебя за деньги? Впрочемъ, время еще не ушло. A покуда мы обезпечены наслѣдствомъ.
– Развѣ я сказалъ что-нибудь дикое?
– Въ достаточной мѣрѣ… Полагаю, всякій учитель беретъ учениковъ съ тѣмъ, чтобы въ нихъ отразить и продолжить самого себя, a не враговъ и оппонентовъ себѣ вырабатывать… Естественная сила эгоизма, мой другъ, въ творчествѣ педагогическомъ властвуетъ и дѣйствуетъ столько же, какъ и во всякомъ другомъ… И – какого убѣжденнаго учителя ты ни изслѣдуй, именно лучшіе то изъ нихъ и оказываются совершеннѣйшими эгоистами по вліянію… Понимаешь меня? Болѣе того: тутъ, если хочешь, въ томъ то и наибольшій альтруизмъ заключается, чтобы быть какъ можно большимъ эгоистомъ и дѣлать изъ питомца человѣка не по тому образу и подобію, какъ онъ самъ хочетъ или другіе совѣтуютъ, но – куда тянутъ симпатіи воспитателя…
– Ты отчасти правъ, – съ грустью сказалъ Матвѣй, – въ воспитаніи, на днѣ гдѣ то, есть осадокъ насилія… Можетъ быть, слабый, можетъ быть, парализованный прекрасной цѣлью, но есть… Когда я пробовалъ быть педагогомъ, я его чувствовалъ – этотъ внушающій эгоизмъ вліянія, какъ ты говоришь, эту жажду перелиться въ душу учениковъ своею личностью, настоять, чтобы именно вотъ ты, такой-то, a не другой кто отразился въ зеркалѣ души, которое ты шлифуешь… Потому и бросилъ…
– Вотъ видишь… Стало быть, о карандашѣ я не такъ ужъ нелѣпо сказалъ.
– Ты не нелѣпо сказалъ, – тихо возразилъ Матвѣй, – a цинично… Всякое образованіе всякое воспитаніе – конечно, временная условность. Когда всѣ люди дойдутъ до сознанія въ себѣ Бога и поймутъ его истину, воспитаніе и образованіе станутъ не нужными…
– Но покуда Иванъ-Дураково царство не наступило, и земля не залита океаномъ неблаговоспитанности…
Матвѣй проницательно смотрѣлъ на брата и говорилъ:
– Что ты, что Симеонъ – странные люди. Вы оба на ближнихъ, какъ на пѣшки, смотрите, которыя будто для забавы вашей сдѣланы, для шахматной игры, и каждаго вы принимаете именно съ этой точки зрѣнія: на что онъ годится? не самъ по себѣ на что годится, a вамъ, вамъ на что годится? какъ бы въ него сыграть?
– Скажите пожалуйста?! – думалъ, въ дыму, изумленный и нѣсколько даже сконфуженный, Модестъ: – Матвѣй Блаженный характеристики закатываетъ… Вотъ и не вѣрь послѣ этого въ прозорливость юродивыхъ! Преядовито въ любимую точку попалъ, шельмецъ, да еще и жалѣетъ…
Размахалъ дымъ рукою и заговорилъ.
– Если ты самъ не хочешь обратить Григорія Скорлупкина въ карандашъ свой, то уступи его мнѣ…
Матвѣй отрицательно покачалъ головою.
– Не хочешь? Но вѣдь кто же нибудь да сдѣлаетъ изъ него свой карандашъ? Ты знаешь: res nullius cedit primo occupant!
– Я не могу ни уступать живого человѣка, ни задерживать его при себѣ. Но я не скрою отъ тебя, Модестъ, что я былъ бы очень огорченъ, если бы Григорій оказался, какимъ либо случаемъ, подъ твоимъ вліяніемъ.
– Да? Мило и откровенно! Почему?
– Потому что – я боюсь – въ твоихъ рукахъ этотъ карандашъ напишетъ вещи, очень нехорошія для себя и для другихъ…
Модестъ улыбнулся съ превосходствомъ и сказалъ:
– Ахъ, Матвѣй, хоть отъ тебя то такихъ словъ не слышать бы… Когда вы, окружающіе меня, умные и добродѣтельные люди, поймете, что вся моя страшная и развратная репутація гроша мѣднаго не стоитъ и, въ сущности, я совсѣмъ ужъ не такой чортъ, какъ…
– Я и не боюсь твоей репутаціи, Модестъ, – серьезно и мягко остановилъ его братъ. – Я знаю очень хорошо, что въ слухахъ и толкахъ, которые о тебѣ распускаютъ по городу разные легкомысленные люди, все преувеличено, по крайней мѣрѣ, во сто разъ…
– Ну, положимъ, не во сто, – проворчалъ Модестъ: – если во сто, то – что же останется?
– A въ преувеличеніяхъ ты самъ виноватъ, потому что они тебѣ нравятся…
– Скажите, какой сердцевѣдъ! – отозвался Модестъ съ искусственнымъ смѣхомъ.
Но Матвѣй спокойно повторилъ.
– Да, Модя, нравятся. Я не знаю почему, но въ послѣднее время встрѣчаю ужасно много людей, которымъ нравится, чтобы ихъ считали жестокосердными злодѣями, безчувственными развратниками и сладострастными Карамазовыми… Ты, къ сожалѣнію, изъ нихъ.
– Изъ нихъ? – насильственно усмѣхнулся Модестъ. – Это прелестно – твое обобщеніе: изъ нихъ… До сихъ поръ я имѣлъ слабость думать, что я самъ по себѣ… единица… Оказывается, я – дробь, часть какого то неопредѣленнаго цѣлаго… "изъ нихъ"… Гм…
– Нѣтъ, нѣтъ, – въ невинности душевной поспѣшилъ успокоить его Матвѣй, – ты напрасно боялся и обособлялъ себя… Такихъ сейчасъ множество, безконечное множество…
– Молчи! – едва не крикнулъ ему Модестъ, чувствуя судорогу бѣшенства въ горлѣ и видя зеленыя облака, заходившія передъ глазами. Но во время сдержался, перевелъ злобный окрикъ въ кашель и, прикрывъ лицо рукавомъ, будто отъ яркаго свѣта лампы, слушалъ, притаясь, и думалъ, во внутреннемъ кипѣніи, будто въ немъ съ какихъ-то органовъ самолюбія заживо кожу снимали:
– Везетъ же сегодня мнѣ… разжалованному Мефистофелю… ну-съ, дальше? – думалъ онъ. A Матвѣй говорилъ:
– Я увѣренъ, что, какія бы нехорошія вещи ты ни говорилъ, – быть можетъ, иногда ты ихъ даже дѣлалъ, – это въ тебѣ не твое главное, это – сверху, это – не ты…
– Я не я, и лошадь не моя! – презрительно бросилъ Модестъ, притворяясь, будто согласенъ.
– Ты можешь вовлечься во что либо отвратительно грязное, сальное, унижающее твою человѣчность. Но я увѣренъ: если-бы случай или чья либо злая воля поставили тебя лицомъ къ лицу съ конечнымъ грѣхомъ и зломъ…
– Чья-либо? – усмѣхнулся Модестъ. – A не своя собственная?
– Твоя собственная воля никогда тебя на такой конецъ гибели не приведетъ.
Модестъ круто повернулся носомъ къ стѣнѣ.
– Ну, конечно! – пробормоталъ онъ, – гдѣ же мнѣ… Перъ Гюнтъ! Ну-съ, такъ лицомъ къ лицу съ конечнымъ грѣхомъ и зломъ.
– Я увѣренъ, что ты найдешь въ себѣ силу предъ ними устоять… и повернуть на другую дорогу.
– То-есть – струсить, – горько переводилъ себѣ Модестъ.
– И, быть можетъ, только тогда ты найдешь въ себѣ себя самого. Потому что вѣдь ты себя совершенно не знаешь и собою себя обманываешь. Ты совсѣмъ не Мефистофель какой-нибудь…
– Слышалъ уже сегодня! знаю!
– Не Донъ-Жуанъ, не Неронъ, не Фоблазъ…
– A просто кандидатъ въ ложку Пуговочника: Знаю!..
Модестъ смѣялся долго и нервно, такъ что и Матвѣй засмѣялся.
– Я очень радъ, что ты все это такъ просто и весело принимаешь, – сказалъ онъ. – Это очень хорошій знакъ… Въ тебѣ много дѣтскаго, Модестъ. Знаешь ли ты это?
– О, да! Ужасно! Купи мнѣ матросскую курточку и панталончики… и лакированную шляпу съ надписью: "Орелъ".
– Ну, a вотъ видишь ли, – перешелъ Матвѣй въ серьезный тонъ, – тотъ, кого ты предлагаешь взять въ свою опеку, Григорій Евсѣичъ мой Скорлупкинъ, человѣкъ совсѣмъ другого сорта… Можетъ быть, онъ не весьма уменъ, и вотъ – наши образовательные опыты показываютъ, что онъ не талантливъ, даже не способенъ… Но я искренно счастливъ, что намъ удалось извлечь его изъ среды, въ которой онъ росъ и получилъ первыя воспитывающія впечатлѣнія. Потому что среда эта – насквозь отравленная жадностью, мелкою злобою, лицемѣріемъ, ханжествомъ, сластолюбивая, похотливая, полная коварства, лести и лжи… Мѣщанство и черная сотня, въ полномъ объемѣ этихъ понятій. Если онъ нашелъ въ себѣ достаточно сознательной силы, чтобы отдалиться отъ родного мірка и стать подъ наше вліяніе – ну, мое, Аглаи, Грубина, Немировскаго… – это очень благополучно не только для него, но и для общества. Потому что, видишь ли: онъ – весь – человѣкъ средній, даже, можетъ быть, ниже средняго, но y него, знаешь, характеръ этакій… какъ бы тебѣ сказать? – корневой… Забираетъ жизнь вглубь, пристально, знаешь, этакъ властно, какъ щупальцами, впивается во все, что ему попадается на избранной имъ дорогѣ. Вотъ онъ въ насъ, интеллигентахъ, сейчасъ полубоговъ какихъ-то видитъ, – даже совѣстно. И истинно говорю тебѣ: среди насъ, въ глубокой вѣрѣ, въ насъ, онъ лучше всѣхъ насъ, – онъ борется со своею низменностью такими свѣтлыми и тяжкими напряженіями, что я любуюсь имъ, онъ трогателенъ и прекрасенъ! Но онъ самъ разсказывалъ мнѣ, что, покуда онъ вѣрилъ въ свой домашній укладъ, то не было такой гадкой мѣщанской выходки, такой черносотенной гнусности, которыхъ онъ не одобрялъ бы и не готовъ былъ самъ совершить въ самой острой и грубой формѣ. И я совершенно увѣренъ, что, если-бы и нынѣшній новый Григорій Скорлупкинъ, на поискахъ образованія, заблудился и попалъ въ ту праздную среду чувственныхъ людей, которую ты любишь, подъ вліяніемъ тѣхъ – извини мнѣ выраженіе – грязныхъ словъ, мыслей и идей, которыми вы тамъ, утонченники, небрежно обижаете въ себѣ человѣческое достоинство, – я увѣренъ, Модя, что этотъ молодой человѣкъ не сталъ бы плавать на поверхности вашей утонченной культуры. Стоитъ ему однажды убѣдиться, что она хороша и именно ея то ему и не доставало, и онъ спокойно и сознательно нырнетъ на самое дно…
– И въ то время, какъ насъ Пуговочникъ будетъ переплавлять въ ложкѣ по тринадцати на дюжину, твой краснорылый Григорій прекрасно сдастъ экзаменъ въ дѣйствительные черти?
Матвѣй кивнулъ головой.
– Если хочешь, да. Пойми: это – воля сильная, гораздо сильнѣе всего интеллекта. Онъ не знаетъ, чего хотѣть – хорошо, чего – дурно. Но, однажды рѣшивъ, что вотъ того то онъ хочетъ, онъ хочетъ уже твердо, послѣдовательно, методически. Сейчасъ онъ на дорогѣ въ порядочные люди – и, если выдержитъ эту линію, можетъ весь вѣкъ прожить прекраснымъ, кругомъ порядочнымъ, полезнымъ человѣкомъ. Но если-бы чье-либо вліяніе выбило его изъ чистой колеи и бросило въ низменныя симпатіи и исканія, я ждалъ бы результатовъ жуткихъ… Отвлеченностей онъ не смыслить, умозрѣнія онъ не воспринимаетъ, a – какую идею пріемлетъ, сейчасъ проникается ею дѣйственно и до конца… Онъ практикъ… Наше интеллигентское наслажденіе мыслью для мысли и игрою культурнаго воображенія, оставляющее жить въ воздухѣ столько хорошихъ позывовъ, но, за то, сколько же и порочныхъ, злыхъ, – ему совершенно чужды… Всякая идея трудно въ него входить, – даже не входить она, a лѣзетъ, пыхтя и въ поту лица, тискается. Но, когда она втолкалась въ его голову, онъ считаетъ, что мало имѣть ее въ головъ – она ровно ничего не значить, если по ней не жить… Повторяю тебѣ: онъ теперь на хорошей дорогѣ, но три года тому назадъ онъ, въ компаніи такихъ же дикихъ парней, мазалъ дегтемъ ворота провинившихся дѣвушекъ, и мнѣ пришлось битыхъ три дня убѣждать его, чтобы онъ не принялъ участія въ еврейскомъ погромѣ… Понимаешь? Не отъ чувства убѣждать, a отъ логики – не внушать, что это вообще не хорошо, a доказывать, что это для него нехорошо… И, когда я доказалъ, a онъ понялъ, то и самъ не пошелъ и пріятелей своихъ удержалъ и даже очень смѣло и рѣшительно велъ себя во время погрома – еврейскую семью спряталъ, за дѣтей вступался, дѣвушку отъ насилія спасъ… Видишь? Поставлена машина на рельсы, пары разведены, – ну, значить, и пойдетъ прямехонько на ту станцію, на которую направить путь стрѣлочникъ. Да. Воля y него желѣзная, a умъ не твердый, темный, мысли неразборчивыя, спутанныя… Машина! Просвѣти его какимъ нибудь вашимъ сверхчеловѣческимъ девизомъ, вродѣ "все позволено", такъ, чтобы онъ крѣпко почувствовалъ и повѣрилъ, и онъ, въ самомъ дѣлѣ, все позволять себѣ… И все это будетъ въ немъ не буйною страстью какою-нибудь, которая бушуетъ грѣхомъ, и сама себя боится и трепещетъ въ тайныхъ раскаяніяхъ, – нѣтъ, – съ чувствомъ своего права, спокойно, прямолинейно, холодно: все позволено, – такъ чего же стѣсняться-то? дѣйствуй!..
Модестъ выслушалъ брата съ любопытствомъ, лежа на спинѣ, руки подъ голову и глядя въ потолокъ.
– Характеристика твоя интересна, – сказалъ онъ, – я не подозрѣвалъ въ немъ такихъ способностей къ дисциплинѣ… Если ты не ошибаешься, конечно.
– Нѣтъ, Модестъ, не ошибаюсь.
– Но именно то, что ты мнѣ сообщаешь, еще болѣе разжигаетъ меня вмѣшать въ развитіе твоего протеже свой, такъ сказать, авторитетъ… Видишь-ли…
Онъ спустилъ ноги съ кровати и сѣлъ.
– Видишь-ли: ты въ совершенномъ заблужденіи, воображая, будто я хочу явиться около этого Григорія чѣмъ-то вродѣ новаго Мефистофеля или "Перваго Винокура"… Напротивъ, я хочу сыграть на самой идеалистической стрункѣ, какая только звучитъ въ его душѣ… Вотъ – Симеонъ распространялся о Рахиляхъ… Извѣстна тебѣ Рахиль твоего протеже? Мнѣ очень извѣстна… Это прозрачный секретъ… Хочешь-ли ты, чтобы твой Григорій Скорлупкинъ сдалъ экзаменъ зрѣлости, защитилъ диссертацію объ эхинококкахъ, получилъ Нобелеву премію, открылъ квадратуру круга, изобрѣлъ аэропланъ и подводную лодку?
– Ты все дурачишься.
– Нисколько. Я только поддерживаю теорію брата Симеона. Ты и теперь не понимаешь меня?
– Нѣтъ.
Модестъ взглянулъ на него съ какимъ-то завистливымъ недовѣріемъ и пожалъ плечами.
– Ну, и слѣпъ же ты, святъ мужъ! Все зависитъ отъ Аглаи.
– Отъ какой Аглаи? – удивился Матвѣй.
Модестъ отвѣтилъ съ быстрымъ раздраженіемъ, точно его переспрашиваютъ о томъ, что стыдно и непріятно повторить:
– Отъ нашей Аглаи… о какой же еще?… Отъ сестры Аглаи…
– Она имѣетъ на него такое большое вліяніе?
Модестъ засмѣялся самоувѣренно.
– Пусть Аглая обѣщаетъ ему выйти за него за мужъ, и онъ лбомъ стѣну прошибетъ.
Матвѣй, изумленный, высоко поднялъ изтемна-золотистыя брови свои, a Модестъ, поглядывая сбоку, сторожилъ выраженіе его лица и будущій отвѣтъ.
– Развѣ это возможно? – сказалъ наконецъ Матвѣй и, закинувъ руки за спину, загулялъ по кабинету.
– A твое мнѣніе? – отрывисто бросилъ ему Модестъ, водя вслѣдъ ему тревожно-насмѣшливыми глазами.
Матвѣй остановился предъ нимъ.
– Если бы я былъ дѣвушка, и отъ моего согласія выйти замужъ зависѣло какое-нибудь счастье человѣческое, я не колебался бы ни минуты.
– Даже не любя?
Матвѣй, опять на ходу, спокойно отвѣтилъ:
– Какъ можно человѣку человѣка не любить, – этого я себѣ совершенно не представляю.
– Женятся и замужъ выходить не по юродивой любви!
– То-то, вотъ, что есть какая-то спеціальная. Всѣ вы придаете ей ужасно много значенія, a мнѣ она совершенно не нужна и незнакома.
Все съ тѣмъ же не то завистливымъ, не то презрительнымъ лицомъ слѣдилъ за нимъ Модестъ.
– Выросъ ты въ коломенскую версту, а, кажется, до сихъ поръ вѣришь, что новорожденныхъ дѣтей повивальныя бабки въ капустѣ находятъ?
– Нѣтъ, я физіологію изучалъ. Но я не понимаю, почему надо подчинять дѣторожденіе капризу какой-то спеціальной любви? Въ природѣ все просто, a среди людей все такъ сложно, надменно, не доброжелательно.
Модестъ грубо, зло засмѣялся.
– Возблагодаримъ небеса, сотворшія тя, все-таки, до извѣстной степени мужчиною. Воображаю, какимъ зятемъ ты наградилъ бы славный Сарай-Бермятовскій родъ!
Матвѣй сѣлъ рядомъ съ нимъ и сказалъ вдумчиво, разсудительно:
– Видишь ли, наша Аглая – прелестная и большой мой другъ. Но я, все-таки, не знаю. Пожалуй, и она еще не на полной высотѣ… Предразсудки сословія, воспитанія…
Модестъ встрепенулся, какъ отъ неожиданности, и воззрился на брата съ любопытствомъ большого удивленія.
– Ты, оказывается, еще не вовсе обезпамятѣлъ? – процѣдилъ онъ сквозь зубы. – Гм. Не ожидалъ.
Матвѣй серьезно отвѣчалъ:
– Многое въ дѣйствительности мнѣ дико и непримиримо, но ея повелительную силу я разумѣю.
Оба примолкли. Модестъ сдулъ пепелъ съ папиросы…
– Я, впрочемъ, и не предлагаю, – выговорилъ онъ какъ бы и небрежно, – не предлагаю, чтобы Аглая въ самомъ дѣлѣ вышла за Скорлупкина, но только, чтобы пообѣщала выйти.
– A потомъ?
Модестъ пожалъ плечами.
– Видно будетъ. Тебѣ что нужно? Срокъ, чтобы высвѣтлить Григорію его дурацкіе мозги. Ну, и выиграешь времени, сколько назначишь.
– Всякій срокъ имѣетъ конецъ. Что обѣщано, то должно быть исполнено.
– Лаванъ разсуждалъ иначе, – криво усмѣхнулся Модестъ.
Матвѣй всталъ, тряся кудрями.
– Въ обѣщаніи, которое дается съ тѣмъ, чтобы не быть исполненнымъ, я участія не приму.
Модестъ съ досадою потянулъ къ нему худое свое, блѣдное лицо, странно сверкающее пытливыми возбужденными глазами:
– Ты забываешь, что сейчасъ браки Рахилей зависятъ не столько отъ Лавановъ, сколько отъ нихъ самихъ.
– Такъ что же?
– Повѣрь мнѣ, – сказалъ Модестъ вѣско и раздѣльно, дробя слоги взмахами руки съ папиросою, – если Іакову легко работать за свою Рахиль, то и Рахиль рѣдко остается равнодушна къ Іакову, который ради нея, запрягся въ каторжную работу.
– A если останется? – спросилъ Матвѣй, круто остановясь. Модестъ сдѣлалъ равнодушно-сожалительное лицо.
– Что же дѣлать? Лоттерея! Придется Григорію перестрадать нѣкоторое разочарованіе.
– За что?
– За науку, что въ жизни не все медъ, случается глотнуть и уксусной кислоты.
Матвѣй рѣзко отвернулся отъ него и сталъ безцѣльно перекладывать книги на столѣ.
– Несправедливо и звѣрски жестоко, Модестъ.
Модестъ всталъ, бросилъ папиросу и подошелъ къ Матвѣю.
– Погоди. Давай разсуждать хладнокровно. Сейчасъ Григорій влюбленъ въ Аглаю, какъ дикарь, грубо, слѣпо, безразсудно. Отдать Аглаю ему, такому, какъ онъ есть, было бы позоромъ, нравственнымъ убійствомъ, скотствомъ. Не возражай: это я говорю, не ты говоришь. Согласія не требую. Свою мысль развиваю. Но Аглая для него именно Рахиль, ради которой, если бы дана была ему хоть малѣйшая надежду, онъ готовъ работать семь и еще семь лѣтъ. Затѣмъ двѣ возможности. Развиваясь, онъ – либо сдѣлается достойнымъ Аглаи, и тогда почему ей, въ самомъ дѣлѣ, не выйти за него замужъ? Либо онъ пойметъ, что выбралъ себѣ Рахиль неподходящую, и тогда обѣщаніе падаетъ само собою.
Матвѣй глубоко задумался.
– Можетъ быть, ты и правъ… – произнесъ онъ медленно, голосомъ человѣка, нашедшаго неожиданный выходъ изъ трудной задачи, – можетъ быть, ты и правъ…
Модестъ, ободренный, подхватилъ.
– Григорій парень, по-своему, по первобытному, не глупый. Онъ оцѣнитъ, что мы, всѣ трое, ему добра желаемъ. Въ случаѣ краха нашей интриги, мы, такъ и быть, попросимъ y него прощенія, a онъ насъ, тоже такъ и быть, извинитъ.
Матвѣй, не отвѣчая, задумчиво его разглядывалъ. Потомъ, безъ отвѣта же, улыбнулся.
– Многіе считаютъ тебя злымъ, a вѣдь, въ сущности, ты добродушенъ.









