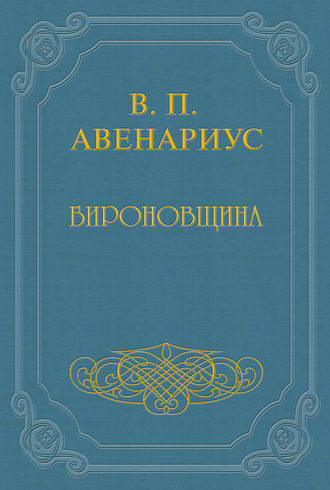
Полная версия
Бироновщина
– Да чего-же проще, – насмѣшливо вмѣшался снова Александръ Ивановичъ: – отправь его въ des sciences Академію: тамъ учеными мужами хоть прудъ пруди.
– А чтожъ, и отправлю, – идея вовсе не дурная, – только не къ нѣмцамъ-академикамъ, а къ русскому-же человѣку, секретарю Академіи, Тредіаковскому. Онъ обучалъ русской грамотѣ вѣдь и принца Антона-Ульриха.
На этомъ разговоръ былъ прерванъ рѣзкимъ звонкомъ въ передней: то были ожидаемые Шуваловыми партнеры, и весь интересъ пріятельской компаніи до самаго разсвѣта сосредоточился уже на "капитальномъ" вопросѣ: ляжетъ-ли такая-то карта направо или налѣво.
VI. Секретарь де-сіянсъ Академіи на службѣ и на Олимпѣ
Своего будущаго учителя, Василья Кирилловича Тредіаковскаго, Самсоновъ не имѣлъ еще случая видѣть, а по наслышкѣ не могъ составить себѣ объ немъ сколько-нибудь яснаго представленія. Нѣкоторое время уже спустя, горемычный піита-философъ, привязавшись, повидимому, довольно искренно къ своему способному ученику, въ минуты откровенія повѣдалъ ему урывками свое прошлое. Изъ этихъ урывковъ для Самсонова постепенно выяснилось, что Тредіаковскій былъ сыномъ приходскаго священника и родился въ Астрахани въ 1703 году. Первые азы онъ одолѣлъ въ мѣстной приходской школѣ, но затѣмъ былъ перемѣщенъ въ латинскую школу при католическомъ костелѣ монаховъ-капуциновъ «для прохожденія словесныхъ наукъ» на латинскомъ языкѣ. Вліяніе на него отцовъ-капуциновъ и въ религіозномъ отношеніи сказалось при окончаніи двадцатилѣтнимъ бурсакомъ курса: когда родитель вздумалъ тутъ женить его на одной священнической дочери, чтобы открыть ему такимъ образомъ путь къ священническому сану, сынъ сбѣжалъ изъ-подъ вѣнца въ Москву. Благодаря основательной подготовкѣ въ латыни, онъ былъ принятъ въ славяно-греко латинскую академію при московскомъ Заиконоспасскомъ монастырѣ прямо въ классъ реторики. Но его мечтою было – «вящшее усовершенствованіе» въ заграничныхъ академіяхъ. И вотъ, съ грошами въ карманѣ, онъ пѣшкомъ добирается до Петербурга, находитъ тамъ «вождѣленную оказію» и на голландскомъ кораблѣ плыветъ въ Амстердамъ. Русскій посланникъ при голландскомъ Дворѣ графъ Головкинъ, даетъ ему y себя временный пріютъ «съ изряднымъ трактаментомъ», пока юноша не научается говорить по-французски; а затѣмъ отпускаетъ его съ миромъ «по образу пѣшаго хожденія» въ Парижъ, гдѣ тамошній посолъ нашъ князь Куракинъ точно также принимаетъ его «на даровой коштъ» въ свой домъ. Въ парижскомъ университетѣ молодой человѣкъ заканчиваетъ свое образованіе по наукамъ философскимъ и математическимъ, а въ Сорбонѣ – по богословскимъ. Въ то же время онъ участвуетъ и въ публичныхъ диспутахъ, пишетъ не только русскіе, но и французскіе стихи, переводитъ на русскій языкъ, частью прозой, частью стихами, сочиненіе «Ѣзда на островъ любви». По возвращеніи въ Петербургъ онъ мается три года безъ мѣста, «испытывая всякія огорчительныя неожиданности и реприманты», пока, наконецъ, въ 1733 году не пристраивается на казенную должность секретаря «де-сіянсъ Академіи», съ жалованьемъ въ 360 р. асс. и съ обязательствомъ: «1, стараться о чистомъ слогѣ россійскаго языка, какъ простымъ слогомъ, такъ и стихами; 2, давать лекціи въ гимназіи при Академіи; 3, трудиться совокупно съ другими надъ лексикономъ, и 4, окончить грамматику, которую онъ началъ, также и переводить съ французского и латинскаго на россійскій языкъ все, что ему дано будетъ». Теперь-же онъ, «какъ истинный сынъ, отечества, полагалъ всю славу и удовольствіе въ доблестномъ выполненіи сихъ начальственныхъ предначертаній».
Все это, какъ сказано, Самсоновъ узналъ уже впослѣдствіи. Когда онъ подходилъ къ главному, украшенному колоннами, порталу академическаго зданія, онъ не зналъ даже, молодой-ли еще человѣкъ Тредіаковскій, или же онъ такого же преклоннаго возраста, какъ этотъ сгорбленный старичокъ въ очкахъ, что поднимался только-что по ступенямъ высокаго крыльца. Пропустивъ старичка впередъ, Самсоновъ вошелъ вслѣдъ за нимъ въ прихожую.
– Здравія желаю вашему превосходительству! – почтительно-фамильярно привѣтствовалъ старичка украшенный нѣсколькими медалями швейцаръ, снимая съ него старенькій плащъ съ капюшономъ, тогда какъ подначальный сторожъ принималъ шляпу и палку.
– Господинъ секретарь здѣсь? – спросилъ старичокъ по-русски, но съ сильнымъ нѣмецкимъ акцентомъ.
Отвѣтъ былъ утвердительный.
– А господинъ совѣтникъ?
– Тоже-съ; сейчасъ только прибыли.
Старичокъ направился къ двери съ надписью, которую Самсоновъ за неграмотностью не могъ прочесть, но которая гласила: "Канцелярія".
– Вѣрно, академикъ? – отнесся Самсоновъ къ швейцару.
Тотъ не удостоилъ его отвѣта, оглядѣлъ его ливрею критическимъ окомъ и спросилъ въ свою очередь:
– Да ты къ кому?
– Къ господину Тредіаковскому, Василью Кириллычу.
– Отъ кого?
– Отъ моего господина.
– Да господинъ-то твой кто будетъ?
– А тебѣ для чего знать?
Швейцарскія очи гнѣвно вспыхнули: какой-то юнецъ-лакеишко и смѣетъ дерзить ему, многократному "кавалеру"!
– Коли спрашиваю, стало, нужно. Ну?
– Господинъ мой – камеръ-юнкеръ цесаревны, Петръ Иванычъ Шуваловъ.
– Ты съ письмомъ отъ него, значить?
– Съ письмомъ.
– Да ты, чего добраго, къ намъ на службу мѣтишь? Ступай себѣ съ Богомъ, ступай! Секретарь y насъ – послѣдняя спица въ колесницѣ и ни какихъ мѣстъ не раздаетъ.
– Я и не ищу вовсе мѣста.
– Такъ о чемъ же письмо-то?
Назойливость допросчика надоѣла допрашиваемому.
– Въ письмѣ все расписано, да письмо, вишь, запечатано. Какъ распечатаетъ его господинъ секретарь, такъ спроси: коли твоя милость здѣсь всѣхъ дѣлъ вершитель, такъ онъ тебѣ все въ точности доложить. А теперь самъ доложи-ка обо мнѣ.
Такою неслыханною продерзостью оскорбленный до глубины души, "кавалеръ" весь побагровѣлъ и коротко фыркнулъ:
– Подождешь!
Приходилось вооружиться терпѣніемъ. Около стѣны стоялъ для посѣтителей ясневаго дерева ларь. Самсоновъ пошелъ къ ларю и присѣлъ. Но начальникъ прихожей тотчасъ поднялъ его опять на ноги:
– Ишь, разсѣлся! Вонъ въ углу мѣсто: тамъ и постоишь.
Дѣлать нечего, пришлось отойти въ уголъ. Въ это время изъ канцеляріи стали доноситься спорящіе голоса, вѣрнѣе, одинъ голосъ, трубный, звучалъ недовольно и повелительно, а другой звенѣлъ виноватой скрипящей фистулой. Первый принадлежалъ, должно быть, "совѣтнику", начальнику канцеляріи, второй же – секретарю.
– Здорово его отчитываетъ! – замѣтилъ сторожу швейцаръ, выразительно поводя бровью.
– Допекаетъ! – усмѣхнулся тотъ въ отвѣтъ. – Вѣрно, опять что проворонилъ.
– Не безъ того. Съ нашимъ братомъ изъ себя какой вѣдь куражный, а передъ начальствомъ и оправить себя не умѣетъ.
Дверь канцеляріи растворилась. Первымъ показался опять старичекъ-академикъ. Провожавшій его до порога "совѣтникъ", сухопарый и строгаго вида мужчина, покровительственно успокоилъ его на прощанье: "Wird Ailes geschеhеn, Geehrtester" ("Bce будетъ сдѣлано, почтеннѣйшій"), и повернулъ назадъ.
Въ тотъ же мигъ проскользнуло въ прихожую третье лицо, судя по потертому форменному кафтану съ мѣдными пуговицами – секретарь, чтобы выхватить изъ рукъ швейцара плащъ академика и собственноручно возложить его послѣднему на плечи.
– Не поставьте въ вину, ваше превосходительство, что нѣкая яко бы конфузія учинилась, – лебезилъ онъ: – вышерѣченное дѣло по регламенту собственно мнѣ не принадлежительно; но отъ сего часа я приложу усиленное стараніе…
– Schon gut, schon gut, Неrr Confusionsrat! – прервалъ его извинительную рѣчь академикъ и, поднявъ на него глаза, спросилъ съ тонкой улыбкой: – Вы, вѣрно, живете теперь опять не въ Петербургѣ y насъ, а на Олимпѣ?
– Именно-съ, на Олимпѣ y батюшки моего – Аполлона и сестрицъ моихъ – музъ, хе-хе-хе! Компаную пѣснопѣніе на предстоящее священное бракосочетаніе ея высочества принцессы Анны.
– Ja, ja, lieber Freund, das sieht man wohl. (Да, да, любезный другъ, оно и видно).
При этомъ руки старика протянулись за подаваемыми ему сторожемъ шляпой и палкой. Но сынъ Аполлона съ такою стремительностью завладѣлъ опять тою и другою, что самъ чуть не споткнулся на палку, а шляпу уронилъ на полъ.
– Richtig! (Вѣрно!) – сказалъ академикъ, наклоняясь за шляпой. – Есть поговорка: "Eile mit Weile". Какъ сіе будетъ по-русски? "Тише ѣдешь…"
– "Дальше будешь", – досказалъ швейцаръ. – Правильно-съ, ваше превосходительство. Поспѣшишь – людей насмѣшишь. Счастливо оставаться.
– Проклятая нѣмчура!.. – проворчалъ Тредіаковскій вслѣдъ уходящему, отирая не первой свѣжести платкомъ выступившій y него на лбу потъ; затѣмъ счелъ нужнымъ сдѣлать внушеніе швейцару: – ты-то, любезный, чего суешься, гдѣ тебя не спрашиваютъ?
– А ваше благородіе кто просилъ исполнять швейцарскую службу? – огрызнулся тотъ.
– Церберъ, какъ есть треглавый Церберъ! А тебѣ тутъ что нужно? – еще грубѣе напустился Тредіаковскій на замѣченнаго имъ только теперь молодого ливрейнаго лакея, который былъ, очевидно, свидѣтелемъ его двойного афронта.
– Я съ письмомъ къ вашему благородію, – отвѣчалъ, выступая впередъ, Самсоновъ и подалъ ему письмо.
Сорвавъ конвертъ, Василій Кирилловичъ сталъ читать. Почеркъ писавшаго былъ, должно быть, не очень-то разборчивъ, потому что читающій процѣдилъ сквозь зубы:
– Эко нацарапано!
Пока онъ разбиралъ "нацарапанное", Самсоновъ имѣлъ достаточно времени разглядѣть его самого. Тредіаковскому было тогда 36 лѣтъ; но по лунообразному облику его лица съ двойнымъ подбородкомъ и порядочному уже брюшку ему смѣло можно было дать всѣ 40. Бритва, повидимому, нѣсколько дней уже не касалась его щекъ; волосатая бородавка на лѣвой щекѣ еще менѣе служила къ его украшенію. На головѣ его хотя и красовался, по требованіямъ времени, парикъ съ чернымъ кошелькомъ на затылкѣ, но мукою онъ былъ посыпанъ, вѣроятно, еще наканунѣ, а то и два дня назадъ: только тамъ да сямъ сохранились еще слипшіеся отъ сала клочки муки и придавали владѣльцу парика какъ бы лысый видъ.
"Ровно молью поѣденъ", невольно напросилось Самсонову сравненіе.
Разобравъ наконецъ письмо, Василій Кирилловичъ воззрился на посланца.
– Это который же Шуваловъ? – спросилъ онъ. – Меньшой?
– Такъ точно: Петръ Иванычъ; они оба камеръ-юнкерами y цесаревны.
– Знаю! А y кого, опричь цесаревны, онъ еще содержимъ въ особливой аттенціи?
– Кто ему доброхотствуетъ? Да вотъ первый министръ Артемій Петровичъ Волынскій къ нему, кажися, тоже благорасположенъ.
Тредіаковскій поморщился и потянулъ себя двумя перстами за носъ.
– Гмъ, гмъ… Амбара немалое… Мужъ г-нъ Волынскій достопочтенный, великомудрый и y благочестивѣйшей въ большомъ кредитѣ; но… но за всѣмъ тѣмъ отъ его благорасположенія можно претерпѣть ущербъ.
"Ты самъ, стало быть, нѣмецкой партіи?" сообразилъ Самсоновъ и добавилъ вслухъ:
– Господинъ мой въ добрыхъ отношеніяхъ также съ гоффрейлиной принцессы, баронессой Менгденъ. Еще намедни я относилъ ей коробку ея любимыхъ конфетъ.
– О! онъ съ нею ферлакуритъ? Это мѣняетъ дѣло. Баринъ твой, изволишь видѣть, проситъ взять тебя въ науку. Всегда великая есть утѣха прилежать къ наукамъ. Онѣ же отвлекаютъ въ юности отъ непорядочнаго житія. Благодари же Создателя, что направилъ тебя ко мнѣ. До трехъ часовъ дня я занятъ тутъ въ канцеляріи болѣе важной матеріей, по сихъ поръ. (Онъ провелъ рукой надъ переносицей). Съ четвертаго же часа ты можешь застать меня на квартирѣ. Жительствую я здѣсь же, въ Академіи, но со двора.
– Покорно благодарю, ваше благородіе; нынче же по вечеру отпрошусь къ вамъ.
– Приходи, приходи, любезный. А господину Шувалову мой всенижайшій поклонъ и привѣть.
Солнце еще не сѣло, когда Самсоновъ поднимался по черной лѣстницѣ академическаго зданія въ верхній этажъ, гдѣ Тредіаковскому была отведена скромная квартирка въ одну комнату съ кухней, часть которой была отгорожена для прихожей. Колокольчика y двери не оказалось; пришлось постучаться. Только на многократный и усиленный стукъ впустилъ молодого гостя самъ хозяинъ. Вмѣсто форменнаго кафтана на немъ былъ теперь засаленный халатъ съ продранными локтями, а вмѣсто парика – собственная, всклокоченная шевелюра; въ рукѣ y него было гусиное перо: очевидно онъ былъ только-что отвлеченъ отъ бесѣды съ сестрицами своими – музами.
– Прошу прощенья, сударь, – извинился Самсоновъ: – я никакъ помѣшалъ вамъ…
– Ничего, любезный, – снисходительно кивнулъ ему Тредіаковскій; – y меня ни часу не пропадаетъ втунѣ; "carpe diem", сирѣчь "пользуйся днемъ, колико возможно".
– А я думалъ уже, не пошли-ли вы прогуляться, да и прислугу отпустили со двора: погода славная…
– "Поютъ птички со синички,
Хвостомъ машуть к лисички"? —
вѣрно; благораствореніе воздуховъ. Но нашъ брать, ученый, бодрость и силу изъ книгъ почерпаетъ. А что до прислуги, то таковой я второй годъ ужъ не держу. Была старушенція, да Богу душу отдала. Съ того дня живу какъ перстъ, самъ себѣ господинъ и слуга.
Говоря такъ, Василій Кирилловичъ прошелъ въ свою комнату и усѣлся за столъ, безпорядочно заваленный бумагами, а Самсонову милостиво указалъ на другой стулъ, дырявый, y стѣны.
– Садись ужъ, садись, да чуръ – съ оглядкой: одна ножка ненадежна.
– Коли дозволите, я вамъ ее исправлю, – вызвался Самсоновъ: – захвачу изъ дому столярнаго клею…
– И благо. Чего озираешься? Не вельможныя палаты. Года три назадъ, еще приватно на мытномъ дворѣ проживающий, погорѣлъ до тла; однѣ книги изъ огня только и вынесъ; омеблемента и поднесь еще не обновилъ.
"Омеблементъ", дѣйствительно, былъ очень скуденъ и простъ. Даже письменный столъ былъ тесовый, некрашенный. Единственнымъ украшеніемъ небольшой и низкой комнаты служили двѣ полки книгъ въ прочныхъ, свиной кожи, переплетахъ.
– А развѣ г-нъ совѣтникъ не испросилъ вамъ пожарнаго пособія? – замѣтилъ Самсоновъ.
Василій Кирилловичъ безнадежно махнулъ рукой.
– Станетъ этакій ферфлюхтеръ хлопотать о русскомъ человѣкѣ!
– А на него и управы нѣтъ?
– На Іоганна-Данилу Шумахера управа? Га! Этому Зевесу и нѣмцы-академики въ ножки кланяются. Одначе, пора намъ съ тобой и за дѣло. Ты грамотѣ-то сколько-нибудь обученъ?
– Нисколько-съ.
– Какъ? и азбуки не знаешь?
– И азбуки не знаю.
– Эхъ, эхъ! Когда-то мы съ тобой до реторики доберемся.
– А это тоже особая наука?
– Особая и преизрядная; учитъ она не только красно говорить, но еще чрезъ красоту своего штиля и къ тому слушателей приводитъ, что они вѣрятъ выговоренному; подаетъ она и искусный способъ получать милости отъ знатныхъ лицъ, содѣя тебя властителемъ надъ человѣческими сердцами.
– Куда ужъ мнѣ заноситься такъ далеко! Дай Богъ сперва хоть научиться простой грамотѣ да цыфири.
– Да, цыфирь, иначе математика, находится тоже въ столь великомъ почетѣ, что изъ оной знать надлежитъ по меньшей мѣрѣ наиспособнѣйшее и наіупотребительнѣйшее – четыре правила ариѳметики. Нынѣ же начнемъ съ первыхъ азовъ родной рѣчи. Принцъ Антонъ-Ульрихъ, при пріѣздѣ шесть лѣтъ тому въ Питеръ, не зналъ по-русски и въ зубъ толкнуть. Мнѣ выпало тогда счастіе обучать его какъ нашему языку, такъ равно и россійской грамотѣ. Начерталъ я для его свѣтлости наши литеры и каллиграфныя прописи. Теперь оныя и для тебя пригодятся: честь, братецъ, немалая.
Съ этими словами Тредіаковскій досталъ съ полки переплетенную тетрадь, гдѣ въ началѣ была имъ "начертана" крупнымъ шрифтомъ русская азбука, а далѣе – прописи. Такъ какъ его первый ученикъ, принцъ брауншвейгскій, прибывъ въ Россію на 20-мъ году жизни, умѣлъ уже, конечно, и читать, и писать по-нѣмецки, то учителю не было надобности обучать его русскимъ буквамъ и складамъ по тогдашнему стародавнему способу: "Азъ, Буки – Аб", "Буки, Азъ – Ба" и т. д. Выговаривалъ Василій Кирилловичъ русскія буквы по-нѣмецки: "А, Бе". Къ этому упрощенному пріему обратился онъ и съ своимъ новымъ ученикомъ и былъ пріятно пораженъ, съ какою быстротою и легкостью тотъ схватывалъ первоначальную книжную мудрость.
– О! да этакъ y тебя и чтеніе скоро пойдетъ какъ по маслу, – сказалъ онъ. – Вотъ постой-ка, есть y меня тутъ нѣкая торжественная пѣснь: еще въ бытность мою въ Гамбургѣ сочинена мною на коронацію нашей благовѣрной государыни императрицы. Самъ я буду читать, а ты только слѣди за мной.
И, развернувъ на столѣ передъ ученикомъ большой пергаментный листъ, онъ сталъ, не торопясь, но съ должнымъ паѳосомъ, считывать съ листа свою "пѣснь", водя по печатнымъ строкамъ ногтемъ:
– "Да здравствуетъ днесь Императриксъ Анна
На престолъ сѣдша Увѣнчанна"…
– "Императриксъ" – это что же? – спросилъ Самсоновъ. – Императрица?
– Ну да; но по-латыни.
– А зачѣмъ же было не сказать то же по-русски?
– Высокая, братецъ, матерія требуетъ и штиля высокаго. Для тебя сіе, я вижу, еще тарабарщина. Прочитаю-ка тебѣ нѣчто болѣе доступное, – про грозу въ Гаагѣ, городѣ голландскомъ: самъ ее испытавши, тогда жъ и воспѣлъ. Слушай.
И Самсоновъ услышалъ, какъ "набѣгли тучи, воду несучи… Молніи сверкаютъ, страхомъ поражаютъ, трескъ въ лѣсу съ Перуна, и темнѣетъ Луна… Всѣ животны рыщутъ, покою не сыщутъ; біютъ себя въ груди виноваты люди… руки воздѣваютъ, на небо глашаютъ."
Голосъ чтеца гремѣлъ, очи метали молніи. И вдругъ изъ тѣхъ же очей свѣтлый лучъ, а изъ устъ медовые звуки: "О, солнце красно! Стань опять ясно, разжени тучи, слезы горючи… А вы, Аквилоны, будьте какъ и оны; лютость отложите, только прохладите… Дни намъ надо красны, пріятны и ясны."
Неизбалованный слухъ Самсонова ласкало со звучіе риѳмъ, а потому на вопросъ: "каковы стихи?" – онъ отвѣчалъ вполнѣ чистосердечно:
– Превосходны-съ!
Василій Кирилловичъ самодовольно улыбнулся.
– Это, братецъ ты мой, только цвѣточки; а ужъ ягодки у меня!..
"Однако онъ меня своими ягодами, пожалуй, еще обкормитъ! Хорошаго понемножку," подумалъ Самсоновъ и взялся за картузъ.
– Ты что жъ это, уже во-свояси? – съ видимымъ сожалѣніемъ спросилъ декламаторъ.
– Да, ваше благородіе, пора. Много вамъ благодаренъ…
– И есть за что. Сама вѣдь государыня императрица какъ меня цѣнитъ! До гробовой доски не забуду, какъ пѣлъ я передъ нею сочиненную мною на голосъ оду на новый 1733 годъ!
– Сами же и пѣли?
– Собственной персоной. Голосомъ Богъ не обидѣлъ. Государыня изволила возлежать въ своемъ креслѣ y пылающаго камина, а я, смиренно проползши отъ порога до ея стопъ на колѣняхъ, въ такой же позитурѣ пѣлъ свою оду; когда жъ допѣлъ, ея величеству благоугодно было державною дланью ударить меня по ланитѣ. Незабвенная оплеушина!.. Ну, прощай, любезный, утѣшилъ ты меня. Завтра, о сю же пору, жду тебя опять неуклонно.
VII. Прогулка по Лѣтнему саду
Нѣсколько дней уже Лилли Врангель провела подъ кровлей Лѣтняго дворца, но не удостоилась еще представленія императрицѣ. Изъ всѣхъ обоего пола обитателей дворца она болѣе или менѣе сошлась пока только съ нѣмкой мадамъ Варлендъ, которой были поручены главный надзоръ надъ дворцовыми птичниками и дрессировка для государыни разныхъ птицъ. Въ Зимнемъ дворцѣ былъ отведенъ для пернатыхъ, какъ она слышала, особый дворъ; въ Лѣтнемъ же саду имѣлась даже цѣлая «менажерія»: въ одной большой общей клѣткѣ содержались всевозможныя лѣсныя пташки, нѣкоторыя «заморскія» птицы и всякая домашняя; соловьи и орлы сидѣли въ отдѣльныхъ клѣткахъ; точно такъ же отдѣльно помѣщалось и разное мелкое звѣрье: мартышки, сурки и т. п.
Собственно на "птичный" дворъ ни гулявшая въ Лѣтнемъ саду посторонняя публика, ни жильцы Лѣтняго дворца вообще не имѣли доступа. Но для Лилли мадамъ Варлендъ дѣлала изъятіе изъ общаго запрета, такъ какъ дѣвочка съ такимъ неослабнымъ интересомъ относилась къ ея питомцамъ. Чего-чего не узнала отъ нея Лилли! Такъ, напр., что большая клѣтка оставляется на зиму подъ открытымъ небомъ, но отъ морозовъ и снѣга покрывается войлочнымъ чехломъ; что всего больше хлопотъ и заботъ y мадамъ Варлендъ съ выучкой одного сѣраго, съ краснымъ хохолкомъ, красавца-попугая, который, по приказу государыни, выписанъ нарочно изъ Гамбурга и будетъ подаренъ его свѣтлости, герцогу курляндскому, въ день его рожденія – 13-го ноября; что и русскихъ-то птицъ не такъ легко получать въ желаемомъ количествѣ: хоть бы вотъ купецъ Иванъ Симоновъ подрядился наловить 50 штукъ соловьевъ по 30 коп. за штуку (легко сказать! этакія деньги!), а къ осени надо, во что бы то ни стало, раздобыть еще сотню; про обыкновенныхъ пичугъ: скворцовъ, зябликовъ, щеглятъ, чижей, – и говорить нечего…
– Да на что вамъ, помилуйте, все еще новыхъ да новыхъ птицъ, когда y васъ ихъ здѣсь и безъ того хоть отбавляй? – недоумѣвала Лилли.
– А мало ли ихъ требуется для всѣхъ чиновъ Двора? – отвѣчала мадамъ Варлендъ. – Всякому пріятно получить этакую пѣвунью даромъ. Ну, а потомъ весной въ Благовѣщенье ея величество любитъ выпускать собственноручно на волю цѣлыя сотни мелкихъ птахъ, да еще…
– Что еще? – не унималась Лилли, когда та, глубоко вздохнувъ, запнулась.
– Государыня до страсти, знаешь, любитъ стрѣлять птицъ на-лету… Ну, что же дѣлать? Бѣдняжки приносятъ свою жизнь, такъ сказать, на алтарь отечества! А не хочешь ли, дитя мое, разъ прогуляться? Вѣдь ты не видѣла еще всѣхъ здѣшнихъ диковинъ?
Тогдашній Лѣтній садъ состоялъ изъ трехъ отдѣльныхъ садовъ: первые два занимали ту самую площадь между Фонтанкой и Царицынымъ Лугомъ, что и нынѣшній Лѣтній садъ; третій же, какъ ихъ продолженіе, находился тамъ, гдѣ теперь инженерный замокъ съ его садомъ. Диковины первыхъ двухъ садовъ были слѣдующія: свинцовыя "фигуры" изъ "Езоповыхъ фабулъ," "большой" гротъ съ органомъ, издававшимъ звуки посредствомъ проведенной въ него изъ пруда воды; "малый " гротъ и "маленькіе гротцы", затейливо убранные разноцвѣтными раковинами, два пруда: "большой" – съ лебедями, гусями, утками, журавлями и чапурами (цаплями), и "прудъ карпіевъ", гдѣ можно было кормить рыбъ хлѣбомъ; оранжереи и теплицы; затѣмъ еще разныя "огибныя" и "крытыя" дорожки, увитыя зеленью бесѣдки и проч.
Третій садъ былъ предназначенъ не для гулянья, а для хозяйственныхъ цѣлей: часть его была засажена фруктовыми деревьями и ягодными кустами, а другая раскопана подъ огородныя овощи.
Только-что Лилли съ мадамъ Варлендъ вышли на окружную дорогу, отдѣлявшую второй садъ отъ третьяго, какъ вдали показались два бѣгущихъ скорохода, а за ними экипажъ.
– Государыня! – вскрикнула Варлендъ и, схвативъ Лилли за руку, повлекла ее въ ближайшую бесѣдку.
– Да для чего намъ прятаться? – спросила Лилли. – Я государыню до сихъ поръ вѣдь даже не имѣла случая видѣть…
– Когда ея величество недомогаетъ, то лучше не попадаться ей на глаза. Сегодня она дѣлаетъ хоть опять прогулку въ экипажѣ – и то слава Богу. Сейчасъ онѣ проѣдутъ… ч-ш-ш-ш!
Обѣ притаились. Вотъ пролетѣли мимо, какъ вѣтеръ, скороходы; а вотъ послышался, по убитой пескомъ дорогѣ, мягкій шумъ колесъ и дробный лошадиный топотъ. Сквозь ажурный переплетъ бесѣдки Лилли, сама снаружи невидимая, могла довольно отчетливо разглядѣть проѣзжающихъ: въ небольшой коляскѣ, запряженной парой пони тигровой масти, сидѣли двѣ дамы, изъ которыхъ одна, болѣе пожилая, очень полная и высокая, сама правила лошадками.
– Да это же вовсе не государыня! – усомнилась Лилли, когда экипажъ скрылся изъ виду.
– Какъ же нѣтъ? – возразила Варлендъ. – Та, что правила, и была государыня.
– Не можетъ быть! На ней не было ни золотой короны, ни порфиры…
– Ахъ ты, дитя, дитя! – улыбнулась Варлендъ. – Корона и порфира надѣваются монархами только при самыхъ большихъ торжествахъ.
– Вотъ какъ? А я-то думала… Но кто была съ нею другая дама? У той лицо не то чтобы важнѣе, но, какъ бы сказать?..
– Спесивѣе? Да, ужъ такой спесивицы, какъ герцогиня Биронъ, другой y насъ и не найти. Она воображаетъ себя второй царицей: въ дни пріемовъ y себя дома возсѣдаетъ, какъ на тронѣ, на высокомъ позолоченномъ креслѣ; платье на ней цѣною въ сто тысячъ рублей, а брилліантовъ понавѣшено на цѣлыхъ два милліона. Каждому визитеру она протягиваетъ не одну руку, а обѣ заразъ, и горе тому, кто поцѣлуетъ одну только руку!
– Вотъ дура-то!
– Что ты, милая! Развѣ такія вещи говорятся вслухъ?
– А про себя думать можно? – засмѣялась Лилли. – Вы, мадамъ Варлендъ, ее, видно, не очень-то любите?
– Кто ее любитъ!
– А государыня?
– Государыня держитъ ее около себя больше изъ-за самого герцога. Въ экипажѣ она садитъ ее, конечно, рядомъ съ собой, но въ комнатахъ герцогиня въ присутствіи государыни точно такъ же, какъ и всѣ другіе, не смѣетъ садиться. Изъ статсъ-дамъ одной только старушкѣ графинѣ Чернышевой ея величество дѣлаетъ иногда послабленіе. "Ты, матушка, я вижу, устала стоять?" говорить она ей. "Такъ упрись о столъ; пускай кто-нибудь тебя заслонить вмѣсто ширмы, чтобы я тебя не видѣла."
– А изъ другихъ дамъ, кто всего ближе къ государынѣ?
– Да, пожалуй, камерфрау Юшкова.
– Какая же она дама! Вѣдь она, кажется, изъ совсѣмъ простыхъ и была прежде чуть ли не судомойкой?









