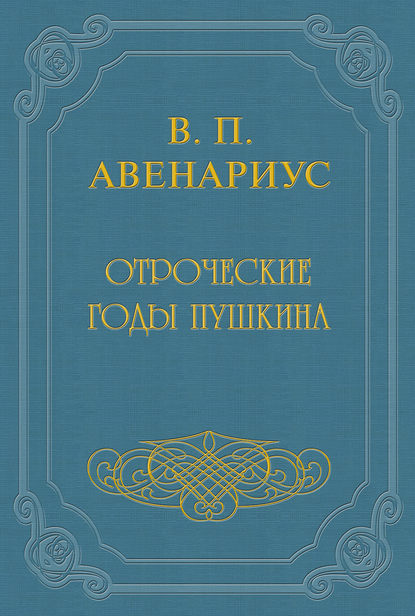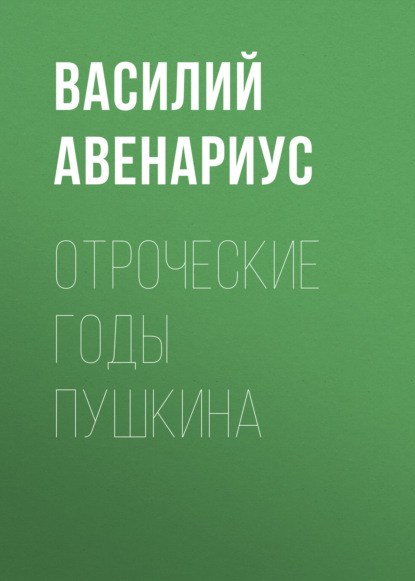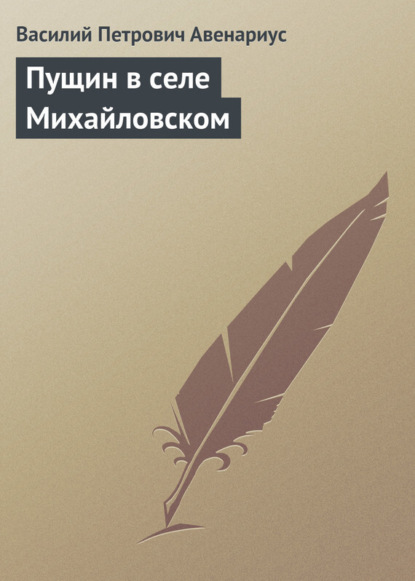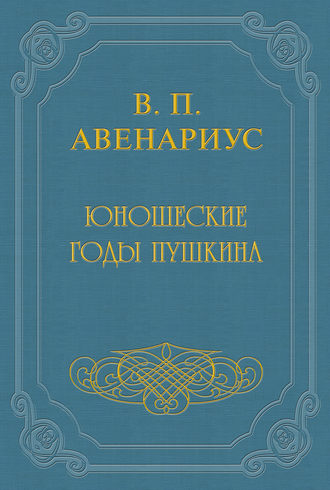 полная версия
полная версияЮношеские годы Пушкина
– Пожалуй, скажем, если уже ты наотрез отказываешься. Не знаю, Пушкин, доведется ли нам с тобой еще быть наедине до твоего отъезда, – продолжал Энгельгардт, и в голосе его зазвучала отечески-задушевная нота. – Поэтому я теперь же дам тебе совет на дорогу: в тебе есть искра Божия – не задувай ее!
– Я мог бы быть, конечно, прилежнее, – согласился Пушкин, – и, вероятно, буду сожалеть о потерянных школьных годах…
– О потерянном, друг мой, что теперь толковать! Что с возу упало – то пропало. Но впереди у тебя еще целая жизнь: если ты хочешь стать настоящим человеком, то должен доучивать то, чему недоучился в лицее и что далось бы тебе в лицее гораздо легче. Помоги тебе Бог! Нас же не поминай лихом…
– Я буду поминать вас только добром, Егор Антоныч.
– Спасибо. Так вот что: если в трудное время тебе понадобится дружеская помощь, искренний совет – иди прямо ко мне: двери моего дома так же, как и сердце мое, всегда будут открыты для тебя!
Сам не зная как, Пушкин очутился в объятиях Энгельгардта.
– Хоть простились-то друзьями! – промолвил с улыбкой растроганным голосом Энгельгардт и, чтобы скрыть свое внутреннее волненье, поспешно вышел.
А Пушкин? На глазах у него также навернулись слезы. Он стоял, как в забытьи: прочувствованные дружеские слова директора глубоко запали ему в душу и, как показало будущее, принесли хорошие плоды.
Давно ли он рвался из стен лицея! А теперь, когда стены эти вдруг раздвинулись перед ним еще за полгода до срока, неодолимая грусть напала на него: лицей – эта воображаемая некогда тюрьма – сделался для него как бы родным домом, а начальники (в том числе, конечно, и Энгельгардт), товарищи и даже лицейская прислуга стали ему вдруг так же близки, как члены своей семьи. Немногие дни между экзаменами и актом пролетели для лицеистов как сон; перед вечной, быть может, разлукой им хотелось наговориться досыта. Воспоминания о прошлом, мечты о будущем прерывались только дорожными сборами и прощальными визитами к царскосельским знакомым.
Так наступило утро последнего дня пребывания их в лицее – 9 июня. Насколько пышно и торжественно 6 лет перед тем открывался лицей, настолько тих и скромен был акт их выпуска оттуда. Правда, император Александр Павлович, как и тогда, удостоил акт своим присутствием; но государь и сопровождавший его князь Голицын (исправлявший должность министра народного просвещения вместо графа Разумовского) были единственные присутствующие из «сильных мира сего». Кроме 29 воспитанников выпускного класса в парадной форме было тут, разумеется, их начальство, были родители немногих из них, да кое-кто из жителей Царского Села. Когда государь ровно в 12 часов дня прошел из внутренних покоев дворца в большой лицейский зал, навстречу ему вышли директор и все профессора. Когда затем все заняли свои места, Энгельгардт с кафедры сказал небольшую вступительную речь. После него конференц-секретарь профессор Куницын прочитал отчет о ходе занятий лицеистов и основных началах их воспитания. В заключение князь Голицын вызывал воспитанников по списку, представлял каждого из них государю и вручал одним медали или похвальные листы, а другим – просто аттестаты.
Первую золотую медаль, оказалось, заслужил Вальховский, вторую – князь Горчаков, первую серебряную – Маслов, вторую – Есаков, третью – Кюхельбекер и четвертую – Ломоносов. Четверым другим: Корсакову, барону Корфу, Пущину и Саврасову – взамен медалей были присуждены похвальные листы. Из 17 воспитанников, назначавшихся в гражданскую службу, 9 человек вышло по 1-му разряду с чином титулярного советника и 8 – по 2-му с чином коллежского секретаря. Из 12 же воспитанников, выбравших военную карьеру, семеро было выпущено по 1-му разряду – в гвардию и пятеро по 2-му – в армию. В общем счету Пушкин оказался 19-м, а между «гражданскими чинами» 14-м. Тотчас за ним следовал Дельвиг.
– Сама судьба сделала меня твоим верным спутником и оруженосцем! – сказал он Пушкину, возвращаясь к нему от стола с аттестатом. – Покажи-ка, брат: как тебя расписали?
Пушкин подал ему свой аттестат.
– «Александр Пушкин… оказал успехи… – прочел про себя Дельвиг, – в Законе Божием и священной истории, в логике и нравственной философии, в праве естественном, частном и публичном, в российском, гражданском и уголовном праве – хорошие; в латинской словесности, в государственной экономии и финансах – весьма хорошие…» Что правда, то правда: ты первый у нас экономист и финансист!
– А как же, – отозвался шутя Пушкин. – Пристраивать деньги разве не умею?
– Еще бы, – согласился Дельвиг и продолжал читать: – «В российской и французской словесности, также и в фехтовании – превосходные…» По этим частям, конечно, тебе и книги в руки. «Сверх того…» Вот это лучше всего: «Сверх того, занимался историей, географией, статистикой, математикой, немецким языком…», стихоплетством и всякими дурачествами.
Последние слова Дельвиг скороговоркой добавил так неожиданно от себя, что товарищи кругом фыркнули, а стоявший около них дежурный гувернер ужаснулся.
– Помилуйте, господа! Что с вами?!
По счастью, внимание высоких гостей было в это время отвлечено от лицеистов, потому что, отпустив только что последнего из них, графа Броглио, князь Голицын стал представлять государю поочередно профессоров. Сказав каждому из них несколько ласковых слов, император встал, подошел к лицеистам и обратился к ним с отеческим увещеванием «не совращаться с пути добродетели и честности, если они желают быть счастливыми в жизни, и свято уважать всегда свои обязанности к Богу и отечеству».
– А теперь покажи-ка мне свой лицей, – обратился государь к Энгельгардту.
Тот немного оторопел.
– Я должен предупредить ваше величество, что воспитанники укладываются в дорогу и потому у нас везде беспорядок…
– Без этого нельзя, конечно. Но я сегодня не в гостях у тебя, а как хозяин хочу только посмотреть на сборы наших молодых людей.
С этими словами император направился прямо к выходу. Учитель пения, барон Теппер де Фергюсон, все время уже стоявший как на угольях, совсем растерялся. Дело в том, что Дельвиг, по настоянию Энгельгардта, действительно сочинил прощальный гимн, а Теппер положил этот гимн на музыку. И теперь-то, когда настала наконец минута его торжества, государь вдруг выходил из зала!
– Гимн, господа! – крикнул бедный учитель и отчаянно замахал обеими руками.
Лицеисты не замедлили грянуть:
– Шесть лет промчалось, как мечтанье… —но грянули так громко, что выходивший император в дверях с улыбкой обернулся и кивнул им головой.
– Я вернусь еще к вам, друзья мои.
И точно, певцы не совсем еще допели довольно длинный гимн, как государь показался снова на пороге в сопровождении Голицына и Энгельгардта и остановился, чтобы дослушать последний куплет.
Шесть лет промчалось, как мечтанье,В объятьях сладкой тишины,И уж отечества призваньеГремит нам: «Шествуйте, сыны!»Простимся, братья, руку в руку!Обнимемся в последний раз!Судьба на вечную разлуку,Быть может, породнила нас!– Прекрасно! – сказал государь, когда замолкли последние звуки гимна. – А где же автор? Где композитор?
Энгельгардт подвел к нему тотчас Дельвига и Теппера. Удостоив того и другого нескольких лестных слов, император Александр Павлович обратился затем ко всем лицеистам:
– Ну, дети мои! Директор ваш выпросил у меня для вас особую милость: на вашу экипировку будет отпущено из казны 10 тысяч рублей, и, кроме того, те из вас, что поступают на гражданскую службу, будут получать, пока не определятся на штатные места, окончившие по 1-му разряду – 800 рублей, а по 2-му – 700 рублей в год. На будущем вашем служебном поприще мы с вами, надеюсь, еще не раз встретимся. Поэтому не говорю вам: «Прощайте!», а говорю: «До свиданья, дети!»
– До свиданья, ваше величество! – восторженно крикнули в ответ все 29 человек лицеистов и бросились провожать уходящего государя сперва на лестницу, а оттуда и на улицу.
– Еще раз благодарю вас, господа, за все ваши труды! – сказал государь на прощанье теснившемуся около его коляски лицейскому начальству. – И вы не будете забыты мною.
Действительно, все почти служащие в лицее от мала до велика удостоились монарших щедрот[58].
В последний раз собрались лицеисты в столовую к обеду. Пушкин сел рядом с Дельвигом; но ему кусок в рот не шел: другого друга его, Пущина, не было с ними за столом; дня за два еще до акта он расхворался, а сегодня, перемогаясь, едва выстоял до конца чтения в актовой зале и по требованию доктора Пешеля оттуда прямо спустился в лазарет.
– Надо же было ему расклеиться!.. – ворчал Пушкин про себя.
– Кому? – переспросил Дельвиг.
– Да Пущину.
– А что?
– Да вместе собирались в Петербург.
– А мне с тобой нельзя, – как бы извинился Дельвиг. – А знаешь что, Пушкин: после обеда прогуляемся-ка еще раз по парку?
– Прогуляемся. Я даже сейчас бы пошел: мне вовсе не до еды.
– Мне тоже. Так идем, что ли?
– Идем.
Друзья-поэты разом встали из-за стола и рука об руку отправились в парк. Обоим казалось, что у них еще так много недосказанного, о чем надо наговориться, – и оба задумчиво молчали или обменивались только отрывистыми фразами. Задушевные звуки голоса, дружелюбные взгляды, крепкие рукопожатия высказывали им лучше всяких слов то, что нужно было им еще выразить друг другу: неизменную верность «до гроба».
Легко понять, что им было не особенно приятно, когда их одинокая прощальная прогулка была прервана появлением третьего лица – такого же поэта, Кюхельбекера.
– Простите, господа… вы гуляете? Можно и мне тоже? – путаясь, заговорил тот, заметив, как Пушкин вдруг насупился.
– Кто же тебе мешает? – небрежно отвечал Пушкин. – Желаю тебе веселиться.
– Да нет… Я не то… Знаешь, как у Шиллера:
Ich sei, gewährt mir die Bitte,In eurem Bunde der Dritte!или в вольном переводе —Дозволь моей маленькой МузеБыть третьей в сем братском союзе!– Браво, Виленька! Ты все совершенствуешься! – усмехнулся уже Пушкин и оглядел саженную фигуру Кюхельбекера. – Маленькая Муза тебе, впрочем, не совсем по росту.
– Напротив, – сказал Дельвиг, – совершенно по законам физики: Муза его обратно пропорциональна квадрату его роста.
– А у вас обоих чем меньше рост, тем больше Муза, – миролюбиво соглашался на все Кюхельбекер. – Поэтому вам, господа, ничего не стоит исполнить мою последнюю просьбу: напишите мне каждый на прощанье по хорошенькому стишку!
– Еще по «хорошенькому»! Вовремя спохватился, нечего сказать: когда в экипаж садиться…
– Ну, сделайте божескую милость, господа! Другим же вы всем написали?
– Всем не всем; во всяком случае, теперь-то не время. Это все равно, как если бы я предложил тебе сейчас с бухты-барахты решить какой-нибудь Ньютонов бином.
– А что ж, решу! Пойдем, сейчас решу! А ты мне за это напишешь?
– Нет, барон, ты на этом его не поймаешь, – сказал Пушкин. – Так и быть, что ли, напишем ему что-нибудь?
– Вот друг! Вот душа-человек! – вскричал в восхищенье Кюхельбекер, и, прежде чем Пушкин успел защититься, на щеке его напечатлелся сочный поцелуй. – Но в таком случае не пойдешь ли ты сейчас домой?
– Ну вот: с прогулки даже гонит! Нечего делать, барон, надо идти.
– Ты, пожалуй, пиши, – отвечал Дельвиг, – для тебя это игрушка; меня же уволь.
Солнце еще не село, когда к лицейскому подъезду с колокольчиками и бубенчиками стали подкатывать одна за другой брички и коляски. Молодые люди, неразлучно 6 лет просидевшие на одной скамье, разлетались теперь во все концы света. В швейцарской и на тротуаре перед подъездом шла беспрерывная толкотня: не успевали одного проводить, как приходилось отправлять другого.
Вот вышел, одетый совершенно по-дорожному, и Пушкин. Началось беспорядочное, но сердечное прощанье. Каждый из не уехавших еще товарищей поочередно заключал его в объятья и затем передавал следующему. От последнего он как бы само собой перешел в руки дежурного гувернера, искренно уважаемого всеми ими Чирикова. За ним же, впереди подначальной команды, подошел старший дядька Леонтий Кемерский. Пушкин взглянул на плутовато-дубродушное лицо бравого усача – и не узнал его: старик плакал, не отирая слез, щеки его судорожно подергивало, а вместо всегдашнего лукавства в отуманенных глазах его можно было прочесть только самую искреннюю печаль. Печаль эта была у него так необычна, что Пушкин теперь только, в эту минуту, будто в первый раз заметил ту значительную перемену, которая совершилась за эти 6 лет со стариком: морщин в лице у него прибавилось вдвое, а слегка серебрившиеся прежде усы совсем побелели.
– Как ты, однако, постарел, Леонтий, с тех пор, что мы знаем друг друга! – невольно сказал ему Пушкин.
– Постареешь, сударь! – отвечал каким-то надтреснутым голосом Леонтий и всхлипнул. – А вы, соколы, – крылья отро́стили и ш-ш-ш! – полетели… Прощайте, ваше благородие! Господь храни вас!
– Прощай, Леонтий.
Волнение старика передалось и Пушкину. Он наскоро также обнял, поцеловал его и вскочил в бричку.
– А что же, Пушкин, обещанье твое? – спросил тут, пробиваясь вперед, Кюхельбекер.
– Ах да! – вспомнил Пушкин и подал ему из кармана листок. – Не взыщи: что было на душе, то и написал.
Кюхельбекер не без некоторого сомнения бросил взгляд на листок в своих руках. Но начальные строки сразу разубедили его:
В последний раз, в сени уединенья,Моим стихам внимает наш пенат.Лицейской жизни милый брат,Делю с тобой последние мгновенья…– Брат и друг! – растроганно проговорил лицейский Дон Кихот и обеими руками потянулся к поэту. – Спасибо тебе…
– Не за что… Ну, трогай! – обратился Пушкин к кучеру. – Прощай, барон! Прощайте, господа!
– Прощай, Пушкин! Добрый путь!
Лошади тронулись.
– Стой! Стой! – раздался в это время с подъезда знакомый голос. В дверях показалась фигура в сером больничном халате, соскочила вниз на улицу и протеснилась сквозь толпившуюся около отъезжающего экипажа кучку.
– Пущин! – вскричал Пушкин.
– Меня в лазарете ты небось и забыл? – с укором говорил первый друг его, крепко обнимаясь с ним.
– Извини, милый мой… Все это, знаешь, так внезапно… В Петербурге осенью опять свидимся… Ах, Боже! Ведь и с Егором-то Антонычем я еще хорошенько не простился… Ну да теперь уже поздно; передай ему мое извинение, мой поклон…
Кучер свистнул, бричка снова тронулась; в воздухе взвилось несколько белых платков; кто-то крикнул что-то вслед отъезжающему; экипаж круто вдруг завернул в парк…
Прощай, лицей!
Глава XXVI
За стенами лицея
Насилу яНа волю вырвался, друзья!Ну, скоро ль встречусь с великаном?«Руслан и Людмила»Отечество тебя ласкало с умиленьем…«Кавказский пленник» (Посвящение Н. Н. Раевскому)В Петербурге Пушкин на этот раз пробыл всего несколько дней. Прикомандированный к коллегии иностранных дел, он принес только присягу и затем с родителями и сестрой укатил до поздней осени в село Михайловское.
«Помню (говорит он в своих „Записках“), как я обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч.; но все это нравилось мне не надолго. Я любил и доныне люблю шум и толпу».
В октябре месяце он возвратился в Петербург, и так как определенных занятий на службе у него еще не было, то он имел полную свободу отдаться «шумной толпе», т. е. так называемому «большому свету». Доступ туда открылся ему благодаря родственным связям и знакомству с графами Бутурлиными, Воронцовыми и Лаваль, с князьями Трубецкими, Сушковыми и другими аристократами. «Толпа» так его поглотила, закружила, что оттеснила на некоторое время даже от лицейской товарищеской семьи. Пущин, который с шестью другими лицеистами тою же осенью, сдав новый экзамен, был произведен в офицеры и обучался фронту в гвардейском образцовом батальоне, недаром возмущался этим увлечением своего друга светскою жизнью.
«Пушкин часто сердит меня и вообще всех нас тем (рассказывает он), что любит, например, вертеться у оркестра (в театре) около знати, которая с покровительственною улыбкой выслушивает его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак – он тотчас прибежит. Говоришь, бывало:
– Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом? Ни в одном из них ты не найдешь сочувствия.
Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать – что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом смотришь: Пушкин опять с тогдашними львами!.. Странное смешение в этом великолепном создании! Никогда не переставал я любить его; знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы он, наконец, настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание».
А что же Чаадаев, что Жуковский и друзья его «арзамасцы», имевшие на него еще недавно такое решительное влияние?
Чаадаев состоял адъютантом при начальнике гвардии, генерале Васильчикове, и находился в то время вместе с высочайшим двором в Москве. Жуковский был еще в своем милом Дерпте; а прочие «арзамасцы» сделали все, что зависело от них: выбрали молодого Пушкина в члены «Арзамаса». Но то заседание «Арзамаса», в котором происходил его прием, было и единственным, в котором он вообще удосужился побывать. Шуточная вступительная речь его начиналась, как следовало, торжественными шестистопными ямбами:
Венец желаниям! Итак, я вижу вас,О, други смелых муз, о, дивный Арзамас!Далее он так рисовал образ истого «арзамасца»:…в беспечном колпаке,С гремушкой, лаврами и с розгами в руке.К сожалению, эта любопытная речь целостью не сохранилась. Само собою разумеется, что новому члену было также присвоено насмешливое прозвище, взятое, как всегда, из стихов Жуковского; а именно – он был прозван Сверчком, потому что, сидя, так сказать, еще за печкой Царскосельского лицея, своей поэтической стрекотней обратил уже на себя внимание старших поэтов.
Захваченный светским вихрем, Пушкин кружился так без отдыха около полугода. Тут, возвратись однажды морозною зимнею ночью домой с островов, куда его возили опять на тройке приятели-гусары, он почувствовал сильный озноб, а к утру у него открылся бред. Встревоженные Родители послали за придворным медиком Лейтоном. Оказалось, что молодой человек жестоко простудился и что это – начало горячки. Первым делом ему обрили голову, затем наняли ему сиделку. Но днем сестра его, Ольга Сергеевна, почти не отходила от его изголовья. Несколько недель жизнь его висела на волоске. Наконец, с первыми лучами весеннего солнца он ожил и стал быстро поправляться; а раз, когда сестра его поутру опять вошла к нему, он потребовал бумагу и карандаш и набросал известное стихотворение:
Я ускользнул от Эскулапа,Худой, обритый, но живой…– Премило! – восхитилась Ольга Сергеевна, прочтя стихи. – Но, право, Александр, побереги себя еще немножко, не пиши.
Брат ее самоуверенно улыбнулся.
– Скажи ветру: «Не свищи!» Скажи птице: «Не пой!» Не пиши я, милая, я в несколько дней исчах бы, как без пищи.
И точно: писательство, казалось, не только не вредило его здоровью, а способствовало еще его укреплению. Когда он после нескольких часов непрерывной умственной работы выпускал наконец из рук перо, то был в самом счастливом расположении духа, ел с двойным аппетитом и с каждым днем вообще становился свежее и бодрее.
За тем же занятием застали его раз и трое молодых гостей: Дельвиг, сожитель последнего, начинающий также поэт Баратынский и приятель обоих Эртель (впоследствии известный составитель французско-русского словаря и других учебных книг). В полосатом бухарском халате, с ермолкой на обритой голове, Пушкин лежал на кровати с пером в руке, окруженный бумагами и книгами. При входе гостей он не поднял головы, а сделал только знак, чтобы ему не мешали, и продолжал писать. Те, вполголоса разговаривая, отошли к окошку. Дописав что нужно, Пушкин радушно протянул обе руки Дельвигу и Баратынскому.
– Здравствуйте, братцы!
С Баратынским он успел уже вполне сойтись, бывая у Дельвига. Когда ему теперь представили Эртеля, которого он видел в первый раз, он приветствовал его не менее развязно:
– Я давно желал с вами познакомиться: мне говорили, что вы знаете всегда, где достать лучшие устрицы.
«Я не знал, радоваться ли мне этому приветствию, или сердиться за него», – сознавался потом Эртель. Но вот речь зашла о литературе – и гость был очарован.
«Суждения Пушкина были вообще кратки, но метки (рассказывает он); и даже когда они казались несправедливыми, способ изложения их был так остроумен и блистателен, что трудно было доказать их неправильность. В разговоре его заметна была большая наклонность к насмешке, которая часто становилась язвительною. Она отражалась во всех чертах лица его…»
– Глядя на вас, Александр Сергеич, – заметил Эртель, – подумаешь, что вы одни злые эпиграммы да сатиры пишете, а между тем мне говорили, что у вас готовится целая героическая поэма.
– И чудо что такое! – подтвердил Дельвиг. – Судя по тем стихам, что он прочел уже мне…
– Ну, что я читал тебе? – с полудовольной, с полусмущенной улыбкой перебил Пушкин. – Ты не слыхал главного.
– Так прочти же нам теперь.
– Прочти, в самом деле! – подхватил Баратынский.
– Прочтите, Александр Сергеич, ну пожалуйста! – поддержал и Эртель.
Пушкин не стал долго упираться, на скорую руку разобрал раскиданные на столе листы и прочел гостям одну за другою все готовые уже песни поэмы. Двое из слушателей были сами поэты, третий был также любителем и знатоком поэзии, поэтому небывало звучные стихи новой поэмы привели их в самый неподдельный восторг.
– Да это музыка, а не стихи! Ничего подобного не было еще на русском языке! – говорили они наперерыв.
– Ты разом перерос и Жуковского, и Батюшкова! – решил Баратынский.
– Эк куда хватил… далеко мне еще до них… – пробормотал Пушкин, но та самодовольная мина, с которою он наклонился над своим писанием, выдавала его тайную радость и гордость.
– А знаешь ли, Пушкин, что даже Энгельгардт начинает верить в твой талант? – сказал Дельвиг. – На днях встречаю его и спрашиваю: что и как у них в лицее?
– Вашу братью не совсем еще забыли, – говорит, – особенно Пушкина.
– Это по поводу княжны Волконской? – догадался я.
– И да, и нет, – говорит. – Когда я засадил этого молодца за нее в карцер, он от нечего делать измарал всю стену углем. Я думал было сперва дать выбелить ее, но как прочел написанное – раздумал: пусть сохранится как некая святыня.
Пушкин слушал своего друга с задумчивой улыбкой.
– Да, это были начальные стихи из моего «Руслана», – сказал он. – Карандаша у меня на этот раз не было, так я взял из печки уголь. Жаль, что нельзя показать этой «святыни» моему дяде Василию Львовичу: ведь он такой же Фома неверный, как и Энгельгардт; не хотел ни за что признать во мне поэтической искры, не хотел допустить мысли, что меня выберут в «Арзамас».
– Ах, кстати, Александр Сергеич! – спохватился Баратынский. – Слышал ты про оказию, что была с Василием Львовичем в «Арзамасе»?
– Нет; от кого мне слышать? Шесть недель я ведь свету не видал, а вы да и Жуковский молчите!
– Молчали до сих пор, потому что не хотели тебя печалить злоключениями твоего почтенного дяди. Но теперь, когда все устроилось опять к лучшему, скрывать нечего. Василий Львович, видишь ли, ездил куда-то из Москвы за город в кибитке и в стихах описал свою поездку. Стихи ему не очень удались; но с кем этого не бывает? Все это было бы ничего. Но стихи свои он прислал на суд друзей своих «арзамасцев» – и вот это была непростительная ошибка. Друзья разжаловали его из «арзамасского» чина: вместо Вот окрестили его Вотрушкой.
– Бедный дядя!
– Он сам был, конечно, всех более огорчен и излил свою горесть в послании к жестоким друзьям, которое начиналось так:
Что делать! Видно, мне кибитка не Парнас!Но строг, несправедлив ученый Арзамас!Я оскорбил ваш слух; вы оскорбили друга…и т. д. Послание это, в сравнении с забракованным, признано было в «Арзамасе» перлом поэзии; автору не только возвратили прежний его титул Вот, но и сделали к нему еще прибавку «я вас» – «Вот я вас!».
– Сразу узнаю по этому Жуковского! – сказал Пушкин. – Я, право, так рад за дядю…
– А уж сам-то он как рад, говорят! По всей Москве разъезжает, рассказывает анекдот о себе встречному и поперечному.
– Надо будет послать ему список с моего «Руслана», когда кончу.
– Непременно пошли. Твои лавры заменят ему его собственные.
– Нет, господа, у Василия Львовича есть и свои лавры, – вступился Эртель. – Это признал даже такой злой язык, как Воейков. Вы, Александр Сергеич, не читали еще его «Парнасского адрес-календаря»?
– Нет; это что такое? Я знаю только его «Дом сумасшедших».
– А то новейшая его сатира. Кое-что из этого «Адрес-календаря» я, кажется, помню… Про дядю вашего было сказано: «В. Л. Пушкин – при водяной коммуникации, имеет в петлице листочек лавра с надписью: „за Буянова“. Про князя Шаховского: „придворный дистилатор; составляет самый лучший опиум для придворного и общественного театра; имеет привилегию писать без вкуса и без толку“. Но больше всего досталось несчастному графу Хвостову: „обер-дубина Феба в ранге провинциального секретаря; обучает ипокренских лягушек квакать и барахтаться в грязи“».