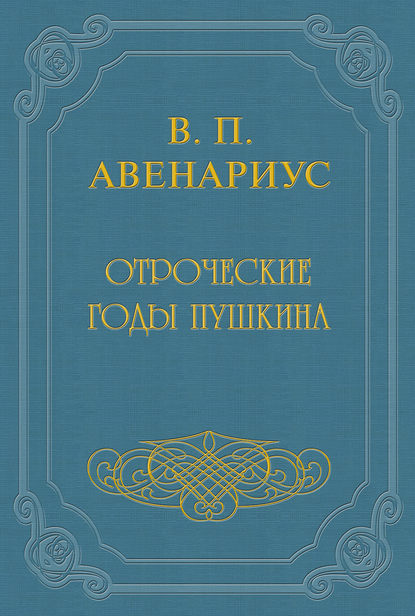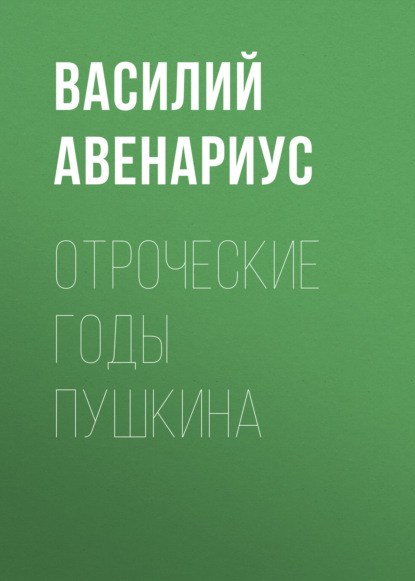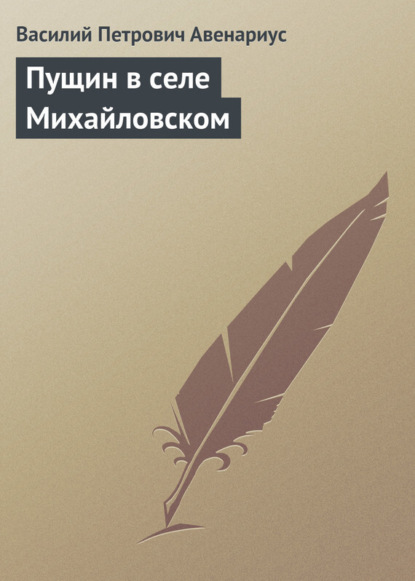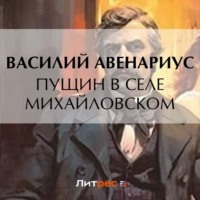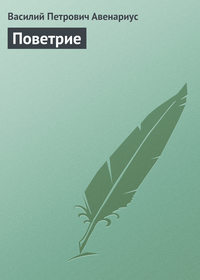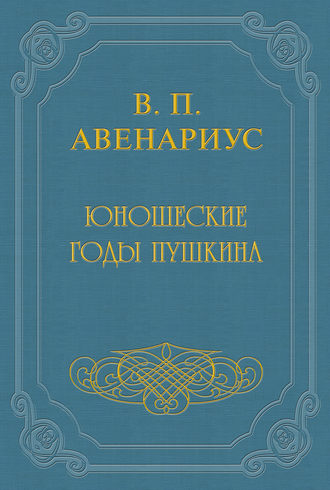 полная версия
полная версияЮношеские годы Пушкина
«Ох! охти мне! – Рифматизм!.. Горло болит; чуть-чуть дышу… Право, любезные читатели, я чрезвычайно болен, а вы заставляете меня говорить. Я думал, что болезнь моя избавит меня от того, чтоб издавать журнал; но не тут-то было. Вызвали меня из убежища, приставили нож к горлу и кричат: „Издавай!..“»
В этом же 3-м номере статья «Апология» (защитительная речь) заканчивается знаменательными словами: «…Еще скажу вам, что я чрезвычайно люблю спать; потому что, когда буду великим Канцлером России, то спать будет некогда, а теперь хочу наспаться на всю жизнь. Вы ожидаете от меня длинной Апологии; но я вам ничего не скажу, не потому, чтобы не было доказательств, но потому, что мне чрезвычайно спать хочется… Что-то зевается… Ох!.. ах!., ух!..»
Против последнего слова сделана внизу страницы такая выноска: «Просим любезных читателей извинить г-на Писаку, ему хотелось спать, и он набредил целый лист».
Из приведенных нами выписок очевидно, как понемногу, вместе со своими сотрудниками, засыпал «Лицейский мудрец», пока, в 1816 году, он не заснул навеки.
Временному оживлению «Мудреца» в конце 1815 года способствовал (совершенно, впрочем, помимо своей воли) Дон Кихот лицейский, Кюхельбекер. Поощряемый Жуковским, он хотя и упражнялся теперь преимущественно в переводах с русского на свой родной, немецкий язык, но не мог, однако, отказаться и от русского стихотворства. Даже на лекциях нередко обуревало его вдохновение. Раз, вызванный к доске профессором Карцевым, он второпях обронил на пол какой-то листок. Пушкин, к ногам которого упал листок, не замедлил поднять его и припрятать. Возвратясь от доски на свое место, Кюхельбекер начал рыться у себя в столе, сунулся в стол к соседу, заглянул и под лавку – все, конечно, напрасно.
– Donner Wetter…[31] – ворчал он про себя.
– Да что ты потерял, Кюхля? – спрашивали его соседи.
– Ничего! – коротко отрезал он и уткнулся в книгу.
Он был уверен, что по обычной своей рассеянности заложил стихи куда-нибудь в тетрадь или книгу и что они после сами собой найдутся. Они, точно, нашлись, но не сами собой и не там, где он думал.
Едва лицеисты собрались к обеду в столовой и принялись за суп, как Пушкин зазвенел о стакан ложкой и провозгласил:
– Внимание, господа! В математическом классе у нас объявился нынче стихотворный найденыш. Кто его к нам подбросил – одному Аллаху известно. Но яблоко, говорят, падает недалеко от дерева, и потому по яблоку мы, может быть, доберемся и до дерева. Развесьте уши и утешьте души:
Взликуйте, русские народы,Камчатки и Карпатских гор,Дуная, Вислы воды,Мы днесь составим цельный хор.Все племени славенска, членыВо сердце с правдою своем,Собравшись под свои знамены,Одним языком воспоем.Страшилища Европы пали,Кичливый свержен мира враг,Как те, что Бога воевали,Злодеям-извергам на страх.Гомерический хохот был ответом на нескладные, безграмотные вирши. Кто был автором их – ни для кого не осталось уже тайной, потому что Кюхельбекер хотя и скорчил самую невинную рожу, но с каждым стихом все более багровел в лице и, наконец, нервически расплескал ложкой суп на скатерть.
– Молодец, Виленька! Вот так отличился! – хохотали вокруг товарищи.
– Чего вы пристали!.. Это вовсе не я… – неумело протестовал Виленька.
– Виден сокол по полету, Дон Кихот по поступи. Второй куплет особенно великолепен. Прочти-ка его еще раз, Пушкин!
– Все племени славенска, членыВо сердце с правдою своем…– Говорят же вам, что это не я… – со слезами уже в голосе перебил Кюхельбекер.
– Ну полноте, господа, – заговорил Вальховский. – Спрячь стихи, Пушкин, или лучше дай их сюда.
– Нет, брат, не отдавай: он их разорвет! – крикнул Данзас. – Дай-ка лучше мне: это такой клад для «Мудреца»…
Пушкин перебросил ему листок через стол. Кюхельбекер сорвался со стула, чтобы на лету поймать листок, но, по неловкости, он опрокинул только графин с водой, которая разлилась по всему столу. Листок же между тем бесследно исчез.
Дежурный гувернер, который несколько раз безуспешно старался унять шумящих, серьезно внушил им теперь «перестать» и кушать, если они не желают, чтобы он послал сейчас за Степаном Степановичем, т. е. за грозным новым надзирателем Фроловым. Все взялись опять за ложки, за исключением одного Кюхельбекера: он, видно, окончательно лишился аппетита и с сердцем отодвинул от себя тарелку.
– Что же вы не кушаете, сеньор Ламанчский? – спросил его ближайший сосед, граф Броглио.
– Не хочу… – был глухой ответ.
– Однако, приказание начальства! Не слышал разве?
– Отвяжись, говорят тебе!
– Ну уж нет, как хочешь: против воли начальства никак невозможно.
С этими словами неугомонный снова пододвинул к Кюхельбекеру его тарелку и ласковым голосом дядьки, увещевающего строптивого мальчугана, продолжал:
– Соседушка мой свет, пожалуйста, покушай!
– Оставь меня, Броглио, прошу тебя… – умоляющим уже тоном проговорил Кюхельбекер.
Тот, однако, все не унимался:
– Ты сыт по горло?
– Да, да…
– И полно, что за счеты,Лишь стало бы охоты…– Да у него нет, кажется, хлеба? – заметил с другого конца стола Пушкин. – На вот, Кюхля, получай!
Он швырнул кусок хлеба через стол, да так ловко, что хлеб шлепнулся прямо в тарелку рыцаря Ламанчского – и суп брызнул ему в лицо. Терпение бедняги лопнуло. Бормоча что-то бессвязное, он рванулся вон из-за стола. Но Броглио поймал его сзади за локти, насильно усадил опять на место и обратился к Дельвигу, который сидел по другую его руку:
– Покорми же его, барон! Не видишь разве, что у мальчика язык заплетается?
И кроткого в другое время Дельвига обуял бес дурачества. Он зачерпнул ложкой супу и поднес ее к губам Кюхельбекера.
– На, милочка, ешь на здоровье!
А что же гувернер?
Гувернера в столовой уже не было: убедясь, что одному ему с шалунами не управиться, он бросился за надзирателем.
Между тем Кюхельбекер, поводя кругом налитыми кровью глазами, как дикий зверь в сетях, в исступлении барахтался и брыкался в сдерживавших его руках силача Броглио; губы же его изрыгали отрывисто такие неприличные речи, каких от него никто еще до сих пор, не слыхал.
– Дон Кихот наш с ума сошел! Дон Кихот взбесился! – раздалось вокруг стола. – Облейте его водой!
Но воды под рукой у Дельвига не оказалось: опрокинутый Кюхельбекером графин не был еще налит. В порыве мальчишества, не отдавая себе отчета в своем поступке, Дельвиг схватил недоеденную им тарелку супа и опорожнил ее на голову беснующегося.
Товарищи ахнули; сам Дельвиг, видимо, смутился, а Кюхельбекер, сделав сверхъестественное усилие, вывернулся из обхватывавших его рук и опрометью кинулся к выходу.
– Куда вы, Вильгельм Карлыч? – спросил его один дядька, загораживая ему у дверей дорогу.
Рослый Дон Кихот лицейский отодвинул его, как ребенка, в сторону.
– Помолись за мою грешную душу…
– Батюшки светы! Да он и то ведь рехнулся, руки на себя наложит!.. – вскричал дядька – и пустился в погоню за ним.
Надо ли говорить, что и товарищи обезумевшего не безучастно отнеслись к этому и не остались сидеть за столом?
Стояла глубокая осень; с ветвистых вековых дерев дворцового парка осенним ветром срывало последние листья, и гуляющих почти нельзя было встретить. Единственное исключение составлял доктор Пешель. Имея наклонность к тучности, он, навестив своих больных в Софии (предместье Царского Села), каждый раз, ради моциона, направлялся в лицей не прямым путем по шоссе, а окольными аллеями через парк, мимо большого пруда. Каково же было теперь его удивление, когда именно в обеденный час лицеистов он наткнулся тут на весь старший курс. Мало того: это была не обычная, чинная их прогулка, а какая-то бешеная скачка или травля! Впереди всех, как преследуемый зверь, мчался исполинскими шагами, в одной куртке, с непокрытой, растрепанной головой, долговязый Кюхельбекер. За ним шагах в тридцати, также налегке, без фуражек, гнались гурьбой его товарищи, а в арьергарде ковыляли, пыхтя и спотыкаясь, двое дядек-инвалидов. Доктор едва успел посторониться от налетевшего на него людского вихря.
– Что это с Кюхельбекером, Фома? – крикнул он вдогонку последнему дядьке.
– Рехнулся… – ответил тот на бегу, не умеряя шага.
– Рехнулся? – повторил про себя Пешель и взглянул на часы, точно справляясь, пора ли было Кюхельбекеру рехнуться. – Гм… фантаст! И то, пожалуй, удерет штуку. Надо вернуться.
Когда он стал подходить к большому пруду, донесшиеся до него оттуда смешанные крики ясно доказали, что «фантаст удрал уже штуку».
– Вон, вон! Вынырнул, пузыри пускает! – кричал один.
– Да ведь он плавать не умеет! – голосил другой.
Задыхаясь от одышки, толстяк доктор уже бегом добрался до пруда. Большинство лицеистов вместе с дядьками беспомощно бродили по берегу, не зная, что предпринять. Хотя снег еще не выпал, но в тихих бухточках поверхность воды кой-где уже затянуло тонкой ледяной корой. В нескольких же шагах от берега, фыркая и захлебываясь, барахтался в воде Кюхельбекер.
– Да нельзя ли хоть сбегать за лодкой? – заметил Пешель.
– Уж побежали, – отвечал один из лицеистов. – Матюшкин да Дельвиг, да еще кто-то.
– Помогите! – донесся с пруда отчаянный вопль.
– То-то вот: «помогите!» – философствовал доктор. – А кто в воду толкал? Не сам разве полез?.. Вы что это делаете, Вальховский? – обратился он к Суворочке-Вальховскому, который живо скинул с плеч куртку.
– Да вы разве не слышите, Франц Осипыч, что он зовет на помощь? – отозвался тот, начиная снимать и сапоги.
– Вы, батенька, кажется, тоже с ума спятили? – напустился на него Пешель. – Сейчас извольте-ка опять одеться.
– Да поймите, доктор, что он плавать не умеет! А я, слава Богу, плаваю, как утка. Пустите меня…
– Нет, уж извините, не пущу! – решительно заявил доктор, не выпуская его из рук. – При вашей слабой комплекции вы от такой ванны схватите горячку…
– А потом, небось, мы и отвечай за вас? – раздался возле резкий посторонний голос.
Спорящие увидели перед собой надзирателя, подполковника Фролова, а вместе с ним временного директора Гауеншильда и дежурного гувернера.
Всех более, казалось, растерялся Гауеншильд. То и дело хватаясь за голову, он причитывал ломаным русским языком:
– Я сказаль, что не можно быть так без директора, – и не можно! Коли не придет новый директор, я отставку подам. Завтра ж отпрафлюсь с мадам и kleine[32] Сашей…
«Мадам» была его супруга – Madame Hauenschild; kleiner Саша – сынок их.
– Да вон, ваше высокоблагородие, и лодка! – успокоил его подвернувшийся дядька. – Ишь ведь как лихо гребут! Мигом выудят.
И точно, не прошло пяти минут, как утопленник был благополучно выловлен из воды и уложен на дне лодки, а спустя еще полчаса он потел под двумя одеялами в лицейском лазарете. Барон Дельвиг, в качестве сиделки, усердно поил его потогонным чаем, который предписал простуженному доктор. Даже крепкая натура Кюхельбекера не выдержала купания в ледяной воде, и ночью у него открылся жар и бред. Дельвиг, изнемогая от усталости, все-таки дежурил бессменно у его изголовья. Доктор Пешель на все делаемые ему вопросы мычал только что-то себе под нос; но озабоченный вид его показывал, что положение больного нешуточное. Скрыть от министра настоящий прискорбный случай не представлялось возможности. После всестороннего обсуждения вопроса в лицейской конференции в Петербург был отправлен рапорт о том, что Кюхельбекер в припадке горячки выскочил, дескать, из лазарета и бросился в пруд; в правлении же лицея, как следует, было заведено особое дело: «Об умопомешательстве Кюхельбекера».
На третий день, впрочем, Кюхельбекер пришел в себя, и первое, что услышали от него доктор и Дельвиг, были стихи, которые он прочел замогильным голосом, не раскрывая глаз:
– Сажень земли – мое стяжанье,Мне отведен смиренный дом:Здесь спят надежда и желанье,Окован страх железным сном;Безмолвно все в подземной келье…– Слава Богу, опять стихи сочиняет! – вздохнул из глубины души Дельвиг. – Он, кажется, очувствовался, Франц Осипыч?
– Кажется, что так, – отвечал Франц Осипович и взял больного за пульс. – Ну что, любезный пациент, выспались?
– Ах, доктор, зачем вы меня сбили! – проворчал пациент, щурясь от света:
Безмолвно все в подземной келье…
Дальше вот и забыл!..
– После вспомнишь, душа моя, – вмешался Дельвиг, наклонясь над товарищем. – Не сердись, Кюхелькебер! Я виноват, кругом виноват, но, право, я никак не мог представить себе…
– Ничего, мой друг… Господь с тобой… Когда меня похоронят, вели только сделать на камне эту надпись…
– Рано вздумали помирать! – перебил Пешель. – Вы еще нас всех переживете.
– Ну конечно! – подхватил Дельвиг. – А эти стихи твои, право, очень даже складны.
Больной застенчиво улыбнулся.
– Ты находишь? Ну, спасибо тебе, барон, за доброе слово! Если хочешь, я тебе их даже…
– На могильный камень пожертвуешь? – весело добавил Дельвиг. – За честь почту; очень обяжешь.
Так переполох с Кюхельбекером, угрожавший трагической развязкой, окончился ко всеобщему удовольствию вполне мирно и имел свою комическую сторону. Следующий же номер «Лицейского мудреца» не менее как в трех статьях и в одной карикатуре увековечил этот любопытный в истории лицея эпизод. Во-первых, «национальная песня» лицеистов обогатилась новым куплетом:
Коль не придет директор,Отставку я подам,И завтра ж с kleiner СашейОтпрафлюсь и с мадам.Далее, в отделе «Критика», появилась статья «Найденыш», где были выписаны приведенные выше патриотические стихи Кюхельбекера и раскритикованы, как говорится, в пух и в прах, причем так и пояснено, что эта «высокая одическая бессмыслица пиндарического порядка» есть найденыш: «ее отыскали в обширных степях математического класса, и потому она немного холодна».
Наконец, в отделе «Политика» было помещено пространное письмо к издателю «от морского корреспондента, живущего в Харибде». В письме этом после описания большого торжества у жителей моря по случаю праздника царя их Нептуна рассказывалось так:
«В то время как все предавалось шумной радости, вдруг возмутилась стеклянная поверхность вод. Смотрим и видим бледную, толстую, с большим красным носом фигуру[33]. Все было на нем в беспорядке. Одной рукой хлопал он себя по ноге, в другую хрюкал. Он снизшел и тотчас, навалившись на спину Нептуна, начал ему басом говорить следующие стихи:
Сядем, любезный Нептун, под тенью зеленые рощи…[34]
Нептун танцевал тогда мазурку и потому чрезвычайно вспотел, а этот неуч навалился на него и скоро получил бы сильнейший кулак… как вдруг какой-то багор схватил его за галстук и потащил вверх»…
Иллюстрацией к письму «морского корреспондента» служила карикатура Илличевского.
«Помешательство» Кюхельбекера было явлением не случайным, единичным: оно было одною из многих неурядиц двухлетнего периода лицейского безначалия; оно было началом конца – конца «междуцарствия».
Глава XIII
Мракобесие лицеистов
Тогда я демонов увидел черный рой,Подобный издали ватаге муравьиной,И бесы тешились проклятою игрой…«Подражание Данту»Как добрый товарищ, Пушкин никогда не уклонялся от участия в каких бы то ни было ребяческих проделках лицеистов; но в то же время он неустанно трудился, чтобы достигнуть высокой цели – принести посильную дань родной литературе. Именно трудился, потому что хотя науками на школьной скамье он занимался по-прежнему не очень прилежно, так что впоследствии должен был стараться пополнить пробелы своего школьного образования, но своей необязательной работе – собственным стихам и собственной прозе – он посвящал целые часы, исправляя, отделывая каждую фразу до тех пор, пока не оставался ею вполне доволен. Поэтических же тем в голове у него роилось так много, что он не знал, за которую раньше приняться. Выше было уже упомянуто довольно подробно о его поэме-сказке «Фатама». Затем, в своих автобиографических записках конца 1815 года, он еще говорит:
«Начал я комедию, – не знаю, кончу ли ее. Третьего дня хотел я написать прозаическую поэму: „Игорь и Ольга“.
Летом напишу я „Картину Царского Села“:
1. Картина сада.
2. Дворец. День в Царском Селе.
3. Утреннее гулянье.
4. Полуденное гулянье.
5. Вечернее гулянье.
6. Жители Царского Села».
Какую именно комедию свою разумел он здесь, видно из письма Илличевского к другу его Фуссу (от 16 января 1816 г.):
«Кстати о Пушкине: он пишет теперь комедию в пяти действиях, в стихах, под названием „Философ“. План довольно удачен, и начало, т. е. первое действие, до сих пор только написанное, обещает нечто хорошее; стихи – и говорить нечего, а острых слов – сколько хочешь!.. Дай Бог ему успеха – лучи славы его будут отсвечиваться и на его товарищах».
(Пророческие слова!)
Ни «Фатама», ни «Философ» не дошли, однако, до нас, а «Игорь и Ольга», «Картины Царского Села» и, конечно, масса других еще замыслов так и остались в зародыше, без исполнения. Что «Фатама», впрочем, подобно «Философу», была начата и, во всяком случае, доведена уже до третьей главы, видно из тех же записок (от 10 декабря 1815 г.), где значится:
«Вчера написал я третью главу „Фатама, или Разум человеческий“; читал ее С. С. и вечером с товарищами тушил свечки и лампы в зале. Прекрасное занятие для философа! Поутру читал жизнь Вольтера…»
Так, кажется, и видишь нашего школьника-философа, как он, пожимая плечами, с усмешкой говорит:
– Ну что ж! Порезвился, поразмял члены, а там опять за работу.
С. С., которому читал он свою поэму, был не кто иной, как Степан Степанович Фролов, надзиратель лицейский. Отставной подполковник, солдат аракчеевского закала с головы до пяток, Фролов в деле воспитания выше всего ставил строгую дисциплину. Если ему, в течение короткой бытности его в лицее, не удалось еще «приструнить», «вымуштровать» распущенных «мальчишек», то единственно потому (как уверял он, по крайней мере, сам), что «руки у него были коротки»: что над ним стояли и временный директор, и конференция.
Слава Пушкина как первого лицейского стихотворца дошла, конечно, и до ушей Фролова. Но он не придавал ей никакого значения до тех пор, пока новое патриотическое стихотворение нашего поэта не затронуло в груди бравого воина сочувственной струны. 1 декабря 1815 года император Александр Павлович вторично вернулся из Парижа, и Пушкин по этому поводу написал свои известные стихи «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году». Вспоминая, вероятно, свое собственное участие в знаменитом Кульмском бою, Фролов однажды совершенно неожиданно при встрече с Пушкиным выпалил в него его же стихами:
– Сыны Бородина, о кульмские герои,Я видел, как на брань летели ваши строи…Молодец мужчина! Отвел душу…В редких порывах благосклонности к воспитанникам надзиратель удостаивал их отеческим «ты».
– Да у меня есть еще и лучше стихи, – не утерпел похвалиться Пушкин.
– Ну?
– Уверяю вас, Степан Степаныч.
– Тащи!
Ослушаться надзирателя – при его вспыльчивости – было немыслимо. Да, с другой стороны, молодому автору было и лестно, что суровый «сын Марса», ничего писаного, кроме рапортов, не признававший, заинтересовался его юношескими опытами.
– Слушаю-с, – сказал он и побежал за двумя окончательно им пересмотренными и перебеленными главами «Фатамы».
На другое утро Фролов, выстраивая лицеистов в ряды, чтобы вести их в класс, и только что прикрикнув на них: «Смирно!», вдруг обернулся вполоборота к Пушкину и как бы невзначай проронил:
– А дальше-то?
Пушкин понял сейчас, что речь идет о его поэме.
– Дальше еще не готово, Степан Степаныч…
– Ась?
– Не дописал.
– Вот на! Зачем же по губам помазали?
– Да некогда: лекции.
– Гм!.. А когда поспеет?
– Третья-то глава у меня вчерне тоже, пожалуй, написана…
– Ну, и прислать!
– Вы ничего не поймете.
– Что-о-о-с!? Да вы, молодой человек, забываетесь… Руки по швам!
– Каракуль моих не разберете.
– А! Не ваше дело.
Надзиратель обратился опять к остальным лицеистам, в рядах которых слышалось перешептывание.
– Но-с! Это еще что? Равняйсь! С левой ноги начинай… Кюхельбекер! Вы что? Ворон считаете? Где у вас левая нога?
Кюхельбекер отдернул выставленную правую ногу.
– Носки вниз! Вольным шагом марш! Раз-два! Раз-два!
Недаром Пушкин предупреждал Фролова, что тому не разобрать его каракуль. В рекреацию после ужина он был вызван лично на квартиру надзирателя.
– У вас тут сам черт ногу сломит! – было первое приветствие, с которым встретил его хозяин.
– Да я же говорил вам, Степан Степаныч, – отвечал Пушкин, с трудом удерживаясь от улыбки.
– Ась? Вот стул. Вот ваше чертово писанье. Извольте читать.
Пушкин уселся на указанный стул, раскрыл тетрадь и начал:
– «Глава третья…»
– Стой! – крикнул вдруг Степан Степанович так оглушительно громко, что Пушкин даже вздрогнул. – Человек! Трубку!
Стоявший на часах за дверьми «человек», т. е. сторож-инвалид, бросился со всех ног в комнату исполнить приказание. Набив начальнику свежую трубку, он повернулся было налево кругом, но был остановлен окриком:
– Куда? Ни с места!
Он замер, как статуя. Степан Степанович, пуская к потолку клубы дыма, более милостиво отнесся к молодому гостю с обычным лаконизмом:
– А сахарной воды?
– Нет, благодарю, – отвечал Пушкин так же лаконично.
– Чего стал? Но! – буркнул надзиратель на человека-статую, и тот как явился, так и исчез мгновенно.
Чтение началось. Пушкин вообще читал хорошо, а на этот раз еще особенно постарался. Действие его чтения на единственного слушателя тотчас сказалось. Сначала Фролов только «хмыкал», потом стал издавать одобрительные возгласы: «Эхе!», «Ишь ты! Поди-ка, на!», «Эк его, нелегкая!», наконец толкнул костлявой рукой колено молодого чтеца и прервал его:
– Постой минутку! Так, стало, это молодчик-то твой из взрослого человека да мальчик с пальчик стал?
Пушкин поднял глаза от рукописи, чтобы ответить. Но ответить ему не пришлось. Сидя лицом к входной двери, он за спиной начальника увидел вдруг на пороге Пущина, который делал ему какие-то телеграфные знаки.
– Виноват, Степан Степаныч… – сказал он и живо приподнялся.
– Куда? Нездоровится, что ли?
– М-да…
– Так капли?
– Благодарю вас… Я сейчас…
И, не слыша уже, что кричал ему еще вслед хозяин, забыв на столе и тетрадь, он выскочил вон.
Покачав головой, Степан Степаныч взял опять в руки замысловатую сказку и стал ее перечитывать сначала. Лоб его то и дело морщился, губы скашивались на сторону и бормотали что-то далеко не лестное для почерка автора.
Прошло пять минут, прошло десять, а автора все не было.
– Человек! – крикнул надзиратель.
Тот, однако, тоже куда-то отлучился: ничего рядом не шелохнулось. Фролов раздраженно ударил кулаком по столу.
– Человек!
Хлопнула отдаленная дверь, послышались поспешные шаги, и в комнату вместо «человека» влетел вихрем младший дядька Сазонов.
– Беда, ваше высокоблагородие!
Старый служака разом встрепенулся и был на ногах.
– Что там?
– Да в рекреационном-то зале тьма кромешная…
– Ну?
– Все лампы потушены, и такой содом… светопредставление, одно слово.
Глаза надзирателя зловеще засверкали…
– И Пушкин там же?
– Кажись, что вместе с другом своим Пущиным-с прошмыгнули.
– Га!.. Ну, голубчики-сударики!..
Еще на лестнице, за два перехода от рекреационного зала, до него донесся такой гвалт, что он счел нужным походный шаг свой обратить в беглый.
– Слава Богу! Мы все ждем не дождемся, полковник… – крикнул ему навстречу дежурный гувернер, Калинич, который с толпой дядек и сторожей-инвалидов стоял в нерешительности около дверей в зал. Двери были притворены, но, тем не менее, от долетавшего из-за них шума едва можно было разобрать свою собственную речь.
– Стыдно, Фотий Петрович, стыдно-с! – укорил подчиненного «полковник».
– Да я только вышел на минутку, как вдруг-с…
– Стыдно-с! Отчего не войдете?
– Да я вот посылал Леонтья, как старшего дядьку, зажечь там лампы…
– Ну?
– Отказывается…
– Что-о-о?!
Вперед выступил теперь сам старик обер-провиантмейстер и старший дядька Леонтий Кемерский.
– Не то чтоб отказывался, ваше высокоблагородие, – с достоинством заговорил он, – а думал, не вышло бы оказии… Ежели же оставить их так, – пошумят, пошумят да и уймутся.
– Трус!
– Георгиевский кавалер, сударь, не может быть трусом! – оскорбленно и гордо отозвался старик дядька, указывая на белый крестик, украшавший его грудь в ряду других крестов и медалей. – Не раз за царя и отечество кровь проливал. Но тут не враг какой, а большие детки, да и детки-то не простые, а дворянские: их пальцем не моги тронуть, а тебя они сгоряча да с ребячьей дури на свою же беду пристукнут…