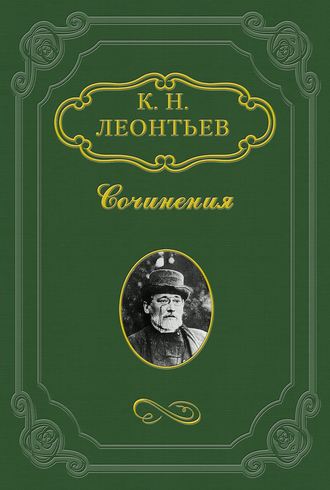 полная версия
полная версияКто правее?
В XIX веке прежде всего важными представляются права человека, права народной толпы, права народовластия. Это разница.
Подобных же сравнительных примеров обоего рода мы можем найти несколько и в истории Западной Европы. И там раньше провозглашения «прав человека» ни племенные объединения, ни изгнания иноверных или иноплеменных завоевателей не влекли за собой либерального космополитизма, не ослабляли религии; не уничтожали дотла и везде ни дворянских привилегий, ни монархического всевластия… Религия (какая бы то ни была) везде усиливалась и как бы обновлялась после этих объединений и изгнаний. Что касается до монархии и аристократии, то хотя в одной стране первая усиливалась на счет второй, а в другой – вторая на счет первой, но нигде они ни религию, ни друг друга до полного бессилия не доводили. Всего этого достиг в конце XVIII века и в XIX «средний класс»; все это совершили те «средние люди», в которых теперь все и сверху, и снизу, волей или неволей стремятся обратиться.
«Собирание» Франции начало быстрее совершаться при набожном Людовике XI, после изгнания англичан при отце его Карле VII, и окончилось (если взять в расчет централизационную деятельность Ришелье) приблизительно ко времени тоже набожного Людовика XIV.
Это объединение ничуть не поколебало во Франции католических чувств… Напротив того, эти чувства во время борьбы с заносным протестантизмом дошли, как известно, до фанатических крайностей.
Протестантство едва-едва добилось наконец до равноправности, но до преобладания ни разу не достигло…
Национальное объединение Франции не поколебало в ней тогда ни одной из национальных основ. Сочетание этих основ между собою, изменяясь значительно в XV и XVI веках, не только не сделало Францию более схожей с остальным миром, но, напротив того, яснее и гораздо выразительнее прежнего обособило ее культуру.
И в Англии, и в Шотландии одинаково преобладало издавна англо-саксонское племя над кельтическими остатками. В начале XVII века[11], при Иакове I, эти две державы соединились. Династия царства слабейшего вступила на престол сильнейшего царства.
И это было племенное объединение; и это было благоприятное решение национального вопроса. Но оно ничуть не сделало великобританцев эгалитарными космополитами в нынешнем общечеловеческом смысле. Напротив того, либерально-аристократический характер учреждений определялся после этого постепенно все яснее и точнее. Характер церкви англиканской в эти именно времена, последовавшие за слиянием, выразил вполне свое исключительно местное, чисто национальное значение, обособился.
Религиозные чувства в протестантской Англии (подобно католическим чувствам в «объединенной» Франции) не только не ослабли, но стали даже исступленными и произвели одну за другою две революции. Первая была ужасна, но вторая (против Иакова II, в 1688 году) была легка, ибо к этому времени национально-культурные особенности Англии стали до того резки и прочны, что защищать их уже не стоило большого труда и кровопролития.
На Пиренейском полуострове долгая борьба христиан с мусульманскими завоевателями, которые несколько веков господствовали на юге этой страны, окончилась в XV веке покорением Гренады. Это завершительное торжество испанцев над иноверными пришельцами произошло почти одновременно с национальным объединением их при Фердинанде и Изабелле, которых брак соединил Арагонию с Кастилией.
Но и здесь национальное единство, одновременное с очищением всей национальной почвы от чуждого владычества, не послужило к обезличению и космополитизму испанского характера.
Именно со времен Фердинанда и Изабеллы стали еще резче прежнего обозначаться государственные, бытовые, литературные, художественные и вообще национальные особенности испанского народа.
Худы или хороши были эти особенности; удобны ли или тягостны они были для большинства, я в это здесь и не вхожу. Для моей цели достаточно напомнить, что они, как известно, были во многом очень резки.
Я здесь не занимаюсь ни утилитарными, ни гуманитарными соображениями.
Я не отказываюсь уважать их вообще; ибо и я не изверг; я только их в этом труде устраняю мысленно, как геометр устраняет в линиях ширину, которую, однако, в действительности имеет всякая линия. Вопрос культуры и политики и без того очень сложен, и входить еще в соображения о том, что было жестоко и что несправедливо, значило бы еще более затемнять его.
Для меня достаточно напомнить и заявить: вот как действовали в веках XV, XVI и XVII все эти национальные объединения, все эти изгнания иноземцев и иноверцев, все эти очищения племенных государств от посторонней примеси. Национального не искали тогда сознательно, но оно само являлось путем исторического творчества.
Каждый народ в то время шел своим путем и своей независимостью обогащал по-своему великую сокровищницу европейского духа.
Не то мы видим теперь!
Теперь (после объявления «прав человека») всякое объединение, всякое изгнание, всякое очищение племени от посторонних примесей дает одни лишь космополитические результаты.
Тогда, когда национализм имел в виду не столько сам себя, сколько интересы религии, аристократии, монархии и т. п., тогда он сам себя-то и производил невольно. И целые нации, и отдельные люди в то время становились все разнообразнее, сильнее и самобытнее.
Теперь, когда национализм ищет освободиться, сложиться, сгруппировать людей не во имя разнородных, но связанных внутренне интересов религии, монархии и привилегированных сословий, а во имя единства и свободы самого племени, результат выходит везде более или менее однородно-демократический. Все нации и все люди становятся все сходнее и сходнее и вследствие этого все беднее и беднее духом.
Национализм политический, государственный становится в наше время губителем национализма культурного, бытового.
Неузнанная сначала в новом виде своем демократическая всесветная революция начинает после каждого нового успеха своего все скорее и скорее сбрасывать с себя лженациональную маску свою; она беззастенчивее прежнего раскрывает с каждым шагом свой искусно избранный псевдоним!
Что Вы на все это скажете?
Кто из нас из двух яснее и правее, по-Вашему?
Письмо 7
Еще несколько вопросов – все для моего вразумления.
Постараюсь быть под конец настолько же кратким, насколько я был многоречив в начале этих писем.
Не знаю, впрочем, удастся ли мне это!
1. Можно ли определять «национальность» так, как определяет ее г-н Астафьев.
«Национальность (не нация ли?) есть племя, доразвившееся до сознания и своей пережитой истории, и своих настоящих духовно-связующих его воедино стремлений, сил и задач, и потому племя культурное».
Как Вы находите это определение?
Мне – оно что-то не нравится; оно что-то слишком философское.
Для проверки этого инстинкта моего попробую обратиться к примерам. Во-первых, сознание своей пережитой истории. Давно ли на Западе (не только что у нас) стали люди знать и ясно сознавать свою «пережитую» историю? Только в наш XIX век. Разве французы хорошо знали и понимали свою прежнюю историю лет 100, 200, 300 тому назад? А разве они тогда были еще только «племенем»? Разве они не были и тогда уже высококультурной нацией?
Мне кажется, что они, будучи уже тогда (при Людовиках XIII, XIV, XV и т. д.) вполне определившейся и культурно-обособленной нацией, делали свою современную историю полусознательно и часто вовсе бессознательно; они творили ее; а сознавать ясно свое прошедшее они стали только тогда, когда творить почти ничего уже им не осталось (т. е. в XIX веке).
Обыкновенно слово «нация», насколько мне известно, понималось просто как известная ветвь известного племени: ветвь, имеющая особые отличительные признаки в племенном языке, в истории, религии, обычаях и т. д. (Племя – славяне; нации – русские, поляки, сербы, болгары и т. д.) Это этнографическое и простое определение гораздо больше удовлетворяет мой эмпирический ум, чем философское и слишком углубленное в одну сторону определение г-на Астафьева.
Это во-первых.
Потом еще и это: «Сознание своих духовно-связующих воедино стремлений, сил и задач и т. д.»
И эти слова г-на Астафьева тоже меня сбивают.
Современные русские, современные чехи, болгары и поляки – все принадлежат к одному славянскому племени. Но стремления и задачи у них у всех вовсе разные. Они теперь не составляют еще одной нации. Это так. Но ведь, с другой стороны, вспомним о баварцах, пруссаках, австрийских немцах прошлого века. У них тоже у всех задачи и стремления были разные; но все-таки они, взятые во всецелости, составляли нацию, государственно лишь разделенную на особые группы. А голландцы и датчане, принадлежа тоже к племени германскому, к нации немецкой не относились и не относятся никем.
И еще вопрос о том же: швейцарцев все привыкли называть тоже нацией; а у них три языка, три крови и две религии. Национальность их только общегосударственная, с теми оттенками в понятиях и привычках, которые должны были развиться под долгим давлением республиканских учреждений.
Вообще нацию определить в точности очень трудно.
Племя – легче. Язык и кровь (признаки более физиологические).
Культуру – тоже легче. Совокупность признаков более идеальных, чем кровь и язык (уже сформированный), т. е.: религия, род государственных учреждений; вкусы (обычаи, моды, нравы домашние и общественные); характер экономической жизни.
Нация же выходит, мне кажется, из совокупности обеих этих совокупностей – идеальных и физиологических. Признаки особой нации слагаются из признаков племенных и культурных.
Как Вы скажете?
Чье определение – яснее и вернее? Может быть, оба хуже? Не знаю.
2-й вопрос.
Г-н Астафьев признает во второй статье своей («Московские ведомости», июнь, № 177), что национальный идеал для России у нас с ним почти один; разница во второстепенных лишь оттенках. «Программа», как выражается он в другом месте, у нас одна.
А мои опасения за чистоту этого идеала в случае какого-нибудь несчастного и преждевременного сближения, слияния, смешения нашего даже и с западными славянами (с чехами, хорватами, словаками, галицийскими русинами), насквозь пропитанными либеральным европеизмом, – эти опасения он называет нападением на национальное начало!
Я писал статью культурно-политическую; представлял факты из новейшей истории Запада для устрашения тех русских, которые, с одной стороны, основательно боятся дальнейшего подражания Европе, а с другой, видимо, думают, что скорое падение Австрии и образование на ее развалинах двух-трех славянских государств, долженствующих вступить в братскую конфедерацию с Россией, послужит к укреплению русских основ, к развитию и выразительности русских национальных особенностей.
Я же нахожу желательным (и даже спасительным для России) скорейшее окончание вопроса только Восточного, но не всеславянского. Всякий может легко понять, что это большая разница! Окончание Восточного вопроса значит: 1. Присоединение Царьграда к России с подходящим округом в Малой Азии и во Фракии. 2. Образование на развалинах Турции православной (а не чисто славянской) конфедерации из четырех разноплеменных православных государств: Греции, Сербии (единой), Румынии и Болгарии и 3. (если возможно) …Присоединение остатков Турции и всей Персии к этой конфедерации. (Англичан из Египта, разумеется, желательно было бы удалить и отдать Египет султану, как нашему подручнику, в непосредственную власть.)
Что касается до австрийских славян, то они могут и подождать до тех пор, пока мы найдем их достойными и безвредными. (В брошюре моей я говорил, что из Боснии и Герцеговины, конечно, надо австрийцев изгнать с позором, чтобы они знали свое место.)
Где же тут нападение на начало национальное вообще? Нападение есть – но оно направлено против космополитизма.
По определению же г-на Астафьева, выходит, что славяне пока еще только племя, а никак не нация. Ни общего «сознания пережитой истории»; ни «духовно-связующих воедино стремлений и задач».
Если мы с г-ном Spectator'oм (см. «Русское обозрение»{19}) несомненно правы в том, что у православных сербов и болгар идеалы слишком буржуазно-европейские и что с ними одними нам еще много будет хлопот, пока Бог поможет нам по-своему «оболванить» их, то чего же, кроме либерального всесмешения, всепринижения и всеразрушения, можно ждать от политического (и неизбежно через это и общественного) общения и сближения с либеральными ни то ни се чехами, католическими хорватами и словаками, желающими, конечно, демократически вылезти из-под мадьяр и т. д. Даже все эти галицийские ливчаки весьма сомнительны. Привыкли все протестовать. Соскучатся без протеста.
Мне стыдно даже и напоминать обо всем этом тем русским людям, которые не равнодушны к особому психическому, религиозному и государственному строю России.
Стыдно потому, что все это до грубости ясно.
Г-н Астафьев, впрочем, ничего и не возражает мне на мою культурно-политическую тему, ни в первой – почти презрительной заметке своей, ни во второй – более солидной, но в высшей степени гневной статье. Он ни слова не говорит о культурных опасностях панславизма (т. е. о том, о чем главным образом я говорил). Он даже находит мою картину современного положения Европы «блестящей». Если же эта картина блестящая, то, вероятно, и правдива; кто же станет хвалить ложь, хотя бы и красноречивую, но отъявленную? Если же эта картина правдива и может служить и для нас практическим предостережением, то какая же нужда заглядывать куда-то в метафизическую темноту – за эту верную картину, разыскать какое-то начало и предостережение называть нападением. Это только путает! (По крайней мере меня.)
Замечу кстати, что я в моей брошюре ни разу даже не употребил выражение «национальное начало». Мне пришла забавная мысль поискать у себя это слово. И вообразите – как был верен на этот раз мой инстинкт! Я имел терпение просмотреть сызнова всю мою брошюру (кто же помнит в точности слова своих статей?!) – и нигде даже этого выражения не нашел. «Национальное движение XIX века»; «политический национализме; «национальный характер»; «национальная свобода», «национальное восстание». Виноват! В одном только месте есть у меня выражение «национально-политический принцип». Виноват потому, что мне никакого и дела не было в этом живом и в высшей степени практическом вопросе до «начал» и «принципов», объективно, т. е. вне живой психологии понимаемых. Важны были для меня только чувства и наклонности людей; важны результаты культурно-политические, при которых психологическая основа само собою очень ясна. Вот она…
У людей нашего времени все те чувства, которые благоприятствуют культурно-бытовому обособлению племен и наций, т. е. их оригинальному развитию, – очень слабы; а все те чувства, которые благоприятствуют общению, подражанию, смешению, ассимиляции (революции), – очень сильны.
Это очень просто.
В тонкости и подробности же этой исторической и социальной психологии углубляться я не дерзаю. (Например, – хоть бы (заняться) психологией сословной, религиозной – и национальной; например, почему рациональные секты вначале моральнее обрядовых и мистических, а потом – расширяясь, утрачивают эту моральность гораздо быстрее первых? Или почему у нас люди церковного сословия (дети белого духовенства) тверже всех других, семейственнее, терпеливее; и почему зато из них не вышло ни одного хорошего поэта; а выходили все из дворян или из низших торговых слоев (Кольцов, Никитин). Или еще: почему лучшие монахи у нас в XIX веке были преимущественно из купцов, а не из крестьян, дворян и церковников… и т. д.)
Да и г-н Астафьев едва ли в силах будет это сделать.
Итак, если у нас с г-ном Астафьевым национальный идеал приблизительно один и тот же; если у нас с ним культурная программа сходна, то почему же я, предохраняя этот идеал или эту программу от разлагающих влияний, являюсь противником национального начала, долженствующего в этом идеале и по этой программе осуществиться?
Ничего не понимаю!
Пожалуйста, объясните мне.
Вопросы 3-й и 4-й.
Г-н Астафьев в конце своей второй статьи говорит обо мне так:
«Он (т. е. Леонтьев) любит национальную особенность вообще, как любит всякую особенность, вносящую в жизнь разнообразие, характер, борьбу, силу, любит ее как эстетик и моралист, видя в ней богатейший и красивейший материал для построения полной содержанием и характерной культуры. Но отсюда далеко до признания национальной самобытности за самую основу и руководящее, дающее самой культуре жизнь, форму и силу, начало этой культуры.
Последнего значения за национальным началом г-н Леонтьев никогда не признавал и признать не может. Такое признание было бы с его стороны отречением от всего своего литературного прошлого. Слишком много сил, страсти и дарования положил он в этом прошлом на проповедь византизма и слишком хорошо знает он, что дорогая ему византийская культура всегда была не национальной (о византийской национальности никто не слыхивал), но эклектическою, искусственно выращенною, для того чтобы помириться с моим понятием о национальности как необходимой основе и формирующей силе всякой мощной и жизнеспособной культуры. Для него и основа, и формирующая сила жизни, повторяю, лежат в самой культуре, для которой национальность – только материал – не более!»
Сначала о выражении г-на Астафьева «национальная самобытность»… «как самая основа и руководящее начало культуры».
Опять я никакого ясного представления при чтении этих слов не получаю.
Где начинается это «начало»?
В физиологии ли народа или целого племени? В физическом ли его темпераменте (пылкий народ, хладнокровный и т. д.)? В дальнем ли мраке этнографического происхождения? (Сирийское племя, семитическое? Монгольская раса? Кавказская?) В первоначальной ли истории народа или племени?.. В том ли, например, как поступит этот народ при начале своего исторического поприща?
Не знаю; не понимаю… И не верю даже, чтобы это «начало» можно было в точности уловить!
Догадываюсь до известной степени, что г-н Астафьев расположен говорить не об историческом начале, т. е. не о первоначальном возникновении особой народности. Догадываюсь, что он говорит о начале философском, т. е. о какой-то движущей силе, лежащей в основе народного бытия и развития; о такой силе, которая заставит родоначальников народа поступить именно так, а не иначе. Но что такое она сама, эта движущая сила – не знаю; да едва ли он объяснить это может.
Ничуть не притворяясь только непонимающим, а в самом деле не понимая, я прошу только указать, где и когда я отрицал эту таинственную силу? Я о ней не писал и даже мало о ней думал, это правда. Но я никогда не отрицал ее. Обо всем думать с равной мерой внимания невозможно; г-н Астафьев, например, ни о вреде, ни о пользе панславизма не пишет и, вероятно, и не думает об этом так серьезно, как думает – о вопросах онтологии и отвлеченной психологии. Но из этого не следует, что он не признает самого значения панславизма для России.
И я не искал непременно доходить до «начал», подобно тому, как физиолог при изложении фактов сравнительной физиологии или врач при описании известного класса болезней, – не считает себя обязанным доходить всякий раз и до химии тканей, крови, отделений и т. д.
Он прав, что мои сочинения имеют более семиологический, чем этиологический, характер, и когда-то (в эпоху «прекрасных дней Аранжуеца»{20}) он отдавал публичную справедливость моей скромности за то, что я сам давным-давно в этом признался. (Прогресс и развитие; «Византизм и славянство».)
Есть, однако, небольшое доказательство тому, что, и не занимаясь особенно этими таинственными «началами» (предпочитая говорить о вещах более наглядных), – я все-таки чуял, так сказать, их значение в истории.
В моей давней статье «Византизм и славянство» есть шесть последних глав, которые не раз удостаивались в высшей степени лестного одобрения г-на Астафьева.
Разве здесь не слышно признания этой таинственной движущей силы, присущей не только обособленным нациям, но, вероятно, и целым племенам – с самых первых шагов их на пути историческом?
Есть врачи и физиологи, которые думают, что уже в зародыше, в самой утробной жизни заложены в человеке те патологические или хоть, общее говоря, физиологические начала, которые впоследствии обнаружатся вполне в виде определенных болезней…
(Разумеется, что отсюда должны быть исключены все те страдания, которые происходят от внешних причин: обжоги, боевые раны и т. п.; хотя, с другой стороны, не следует забывать и то, что эти повреждения одним человеком переносятся лучше, а другим хуже, опять-таки от внутренних причин.
Верить в такую таинственную прирожденность можно; но проследить, как из какой-то незримой точки развивается целая картина сложной болезни, кто возьмется?
А сама болезнь видна всякому.)
Я предпочитаю думать о подобных «картинах» жизни, чем о незримых точках.
Я понимаю, что другой человек, в высшей степени, конечно, умный, может находить особого рода наслаждение в том, чтобы выпускать из себя, как паук паутину, непрерывную диалектическую нить, прикрепив ее предварительно в уме к какой-то невидимой и всегда произвольной точке… Я даже не позволю себе никак отвергать пользу этого испускания философских нитей из умственных недр человека. Я не хочу быть петухом, который «нашел жемчужное зерно и говорит: на что оно?»{21}. Но не завидую и «метафизику» Хемницеру, который, упавши в яму, думает о том: что такое веревка? «Вервие ли оно простое или нет?»
Я только и сам не мастер испускать из себя эту паутину, да и в чужой философской паутине скоро вязну и скучаю.
Совсем без философии, я знаю, нельзя; всякий мужик философствует немного; и не только тогда, когда он говорит «Бог», «душа», «грех» и т. д., но и тогда, когда он говорит «стол», «шапка», «жена», «работа»; ибо и это все отвлечения.
Фейербах, конечно, прав (реально), говоря, что «головы» вообще нет; а есть «вот эта, моя голова»; «жены» вообще нет, а есть «вот эта, ваша жена» и т. п. И что поэтому отвлечения – вздор. Но не только от такой элементарной, но и от несравненно высшей философии в угоду фейербаховскому капризу отказаться нельзя. Г-ну Астафьеву все это известно гораздо лучше, чем мне.
Но есть французская старая и глупая песенка какая-то: «Faut d'la vertu, pas trop n'en faut»{22}…
Так и я скажу: «Faut de la philosophic, pas trop n'en faut!»{23} – когда речь не о его философии, но о делах политических и социальных.
Я и Ваш ум, Владимир Сергеевич, за то особенно ценю, что Вы не в силах были остаться в Вашей прекрасной (и даже для меня, при некотором терпении, понятной) ткани «Отвлеченных начал»; но очень скоро выпутались из нее и обратились к живому и осязательному богословию.
Богословие у же тем лучше, что ту нить, о которой я говорил выше, не нужно привязывать произвольно где вздумается у себя внутри к незримой точке; а можно ее прикрепить к Евангелию, к Св<ятой> Соборной, Апостольской Церкви, к папской непогрешимости и т. д. То есть все к вещам, вне нас стоящим, более зримым и осязаемым.
Если Вы с Вашим истинно диалектическим талантом нашли более удобным выйти на поприще более конкретных вопросов, то где же уж мне – «художнику», как принято меня почему-то обзывать, и отчасти (что гораздо мне лестнее) политику – где мне углубляться в эти «начала» без концов.
Я их чую, положим; я даже готов пламенно веровать в их существование, в их необходимость; и только. Анатом и физиолог не обязаны говорить всякий раз ни о химических элементах и паях, ни об основных физических силах; они обязаны только не отрицать и не игнорировать их.









