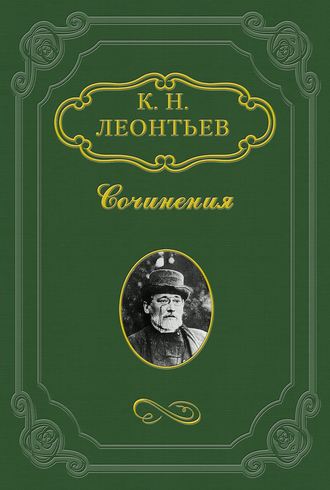 полная версия
полная версияКто правее?
Некоторая степень всеобщего сходства (ассимиляции), разумеется, необходима и для всякой высшей степени развития (для наибольшего единства в наисильнейшем разнообразии).
Не углубляясь далеко в историю, возьмем, например, Россию лет 50, 70, 100 тому назад.
Сословия наши тогда были очень резко разграничены; роды воспитания весьма различны; привычки, вкусы, понятия, предрассудки, народный быт в провинциях были очень разнородны. Но все эти разнородные русские люди были между собою сходны в том, что они все говорили одним языком, были подданными одного и того же царя и в подавляющем большинстве крещены в одну и ту же православную веру. Эта степень ассимиляции достаточная; она не чрезмерна.
Много же дальше какой-нибудь подобной этому ассимиляции христианство и не ищет дойти. Мы знаем, что оно издавна уживалось с весьма разнородными общественными порядками. Демократическая же ассимиляция никакого иного порядка, кроме своего собственного, признавать не хочет.
Ассимилируя людей более или менее настойчиво, более или менее удачно со стороны исповедания, христианство всего остального в жизни людей и не искало непременно в себя претворить. Оно довольствовалось всегда ролью мозга и нервной системы в живом организме, не торопясь обратить его в бесформенную и однородную массу.
Дальше этой роли мистического единения в общественном и племенном разнообразии христианство и не могло даже идти, как я сказал, по существу своего учения.
Высший идеал его: святость, отречение, аскетизм, самоотвержение о Христе – доступен немногим. Всем доступна только самая низшая ступень: возможность посредством веры и покаяния избавиться от адской муки за гробом. И больше ничего!
«Званых много, но избранных мало»{12}!
Прогресс же, со стороны личного идеала, удовлетворяется очень малым: мелким стоицизмом в ежедневном труде; той «вексельной честностью», о которой напомнил г-н Астафьев{13}; миролюбием, главным образом, поневоле, ибо отдельные люди будут все более и более опутываться мелкой сетью однородной легальности и т. д.
Идеал общественной жизни по требованиям прогресса несравненно ниже, однороднее и ровнее, чем та картина жизни, которая допускалась христианством с самого начала его и допускается им до сих пор.
Демократический или утилитарный прогресс (я не хочу сказать, прогресс рационалистический, ибо настоящий разум совсем не за него!) не допускает ничего вне себя; он слишком сер для этого. Христианство, допуская издавна вне себя многое, отчасти преднамеренно, отчасти и невольно (по невозможности вполне справиться), старается только всего этого, вне стоящего, благотворно коснуться, старается всюду лишь протянуть нити своего оживляющего влияния.
Сверх того, христианство не может существовать без мистически освященной иерархии. Вот и еще причина неравенства и несходства между людьми.
Прогресс же никакой своей иерархии не придумал, да и не нуждается в ней.
По всем этим причинам даже и повсеместное, самое искреннее и глубокое восприятие христианского учения (в форме какой бы то ни было церковности) – не грозит уравнять и ассимилировать человечество до той убийственной однородности, до какой может довести его современное учение прогресса при долгом и беспрепятственном господстве.
Сверх всего этого не надо забывать и того, что от проповеди учения евангельского всем и всюду – до искреннего и глубокого принятия его всеми и всюду еще очень далеко!
Изо всего сказанного, мне кажется, легко вывести еще раз и окончательно следующий вывод: всеобщая христианская ассимиляция человечества и по сознательным (мистическим, духовным) целям своим, и по возможному образу воздействий своих, как преднамеренных, так и невольных, на общественную жизнь – ничуть не сходна с утилитарной ассимиляцией «прогресса».
Для народов, на христианстве выросших, этого рода ассимиляция – мистически-церковная, с какой бы стороны она ни пришла, – есть и будет прежде всего явлением охраняющим, зиждительным, а никак не революционным, подобно ассимиляции утилитарной (свободно-равенственной).
Для миров же нехристианских, для государств и культур, возросших на мусульманстве, браманизме, буддизме и т. д., христианская ассимиляция, конечно, будет так же разрушительна (революционна), как она была разрушительна для древних языческих миров; но даже и для них, по всем вышеперечисленным причинам, этого рода ассимиляция не может быть так полна и в историческом смысле убийственна, как ассимиляция европейской эгалитарности.
Если «последние времена» еще не слишком близки, если христианству предстоит в самом деле не одна только последняя и неудачная проповедь, но и временное торжество (воинствующей Церкви), то никакого нет сомнения, что это временное торжество будет иметь больше характер всеобладания, чем характер всесмешения и всепретворения.
Временное и высшее торжество земной, воинствующей Церкви будет, вероятно, больше похоже на последнее и сознательное единство в последнем организованном разнообразии, чем на смешение в однородности.
Я говорю еще раз – временное торжество; последнее единство; последнее разнообразие; потому, конечно, что и при этом торжестве, и при этой наилучшей (положим) организации жизни нельзя ожидать ни вечного покоя сердец на этой земле, ни вечной нерушимости общественного строя.
Нельзя этого ожидать ни по здравому смыслу, ни судя по предсказаниям Св<ятого> Писания.
Вам должно быть лучше моего известно, что даже и те мистические мыслители, которые думают, что перед концом света пройдет еще на земле целое тысячелетие – мира, любви и порядка, и они все-таки говорят: «перед концом»; т. е. и они не решаются отрицать того, что когда-нибудь «прейдет» окончательно «образ мира сего»{14}. Даже и это тысячелетнее всеобладание Церкви; эта теократия будущего; это последнее и высшее единство в кое-каком остаточном разнообразии и оно, по разуму, может, а по Евангелию даже должно разрешиться опять тем же: всесмешением и всерасторжением общественного материала, отступлением от единства и власти веры.
Помните пророчество Исайи (гл. 24{15}): «Се Господь разсыплет вселенную и опустошит ю…» «И будут людие аки жрец, и раб аки господин, и раба аки госпожа; будет купуяй яко продаяй, и взаимемляй аки заимодавец, и должный аки ему же есть должен. Тлением истлеет земля и расхищением расхищена будет земля».
Но как бы то ни было, произойдет или нет когда-нибудь соединение Церквей; в Православие ли перейдут католики, или православные подчинятся римскому единоначалию; настанет ли перед концом такое тысячелетие мира и любви, или уже и теперь все бесповоротно и быстро, с небольшими лишь задержками, движется к этому концу[6], – во всяком случае ассимиляция христианская никогда не может быть сходна с нынешней европейской, буржуазной ассимиляцией.
И из того, что человек опасается последней и ненавидит ее, вовсе не следует, чтобы он был врагом и всехристианской ассимиляции.
Даже и не исповедуя лично в сердце своем ни одного из христианских исповеданий, человек, ставший на почву моей гипотезы, может легко различить и в будущем плоды религиозного единения от результатов утилитарного уравнения.
Даже и не веруя лично, говорю я, человек, допустивший верность моей гипотезы смешения в однородности, всегда должен предпочесть без колебания первое – последнему.
Большего против прежнего разнообразия исторической жизни, увы, теперь уже нечего ждать впереди! Человечество пережило его; оно уже перезрело. Новых племен, действительно молодых народов негде искать. Все известно; все или бездарно, как негры и краснокожие в Америке, или более или менее старо – ив Китае, и в Индии, и в Европе, и даже в России… Какая у нас молодость!
Функции жизни становятся, правда, все сложнее и сложнее; движение жизни все ускореннее и запутаннее; но формы или типы ее развития – все однороднее и серее. Идеал человека – все ниже и проще; не герой, не полубог, не святой, не чудотворец, не рыцарь; а честный труженик.
Надо поэтому и с чисто рациональной точки зрения предпочитать тот род ассимиляции, который обещает быть менее всепоглощающим и всепретворяющим, т. е. менее мертвящим, менее убийственным.
И это еще, я повторяю, не веруя лично, не исповедуя всем сердцем Триединого Бога и не поклоняясь пламенно всему тому, что из учения о Св<ятой> Троице истекает…
Если же к вышеуказанному рациональному предпочтению у человека прибавится и личное христианское чувство, то, конечно, отношения его к ассимиляции христианской и к ассимиляции эгалитарно-европейской станут еще более противоположными.
Перед одной – благоговение; против другой – глубокая ненависть!
При размышлениях о влиянии на историю всехристианской ассимиляции у верующего человека является неизбежно особого рода высшее соображение, которого у него нет в виду при мысли об ассимиляции утилитарной. Эстетика исторической жизни у лично верующего христианина должна уступить место вопросу о его же личном загробном спасении души.
Истинно верующий христианин не сомневается в том. что ему самому, единолично, надо будет рано или поздно дать ответ на страшном судище Христовом, и потому он не имеет права простирать свое бескорыстное служение исторической эстетике до степени принесения ему в жертву своего индивидуального «я» в загробной жизни. Если бы эстетика (разнообразие) истории была бы ему и в высшей степени дорога, он, в сфере своего влияния, обязан приносить ее в жертву в том случае, когда она представляется ему помехой: как спасению его собственной души, так и обращению наибольшего числа людей в христианскую веру. Насколько эстетика жизни – помеха христианству, и даже помеха ли она ему, и не состоят ли все жестокие стороны этой эстетики в глубокой и тайной органической связи с процветанием христианства, – это еще вопрос; я думаю, – что состоят; но здесь нет места и времени об этом распространяться.
Каждый грамотный христианин из катехизиса (а неграмотный – по устному преданию) знает, что всякое расширение христианской проповеди приближает человечество к тому ужасному часу, когда все на этой земле пройдет и погибнет; но он знает также, что ему сочтется на суде Божием всякое мельчайшее личное его действие для обращения других людей в христианскую веру или хоть для их в ней утверждения. Земное человечество он от окончательной исторической гибели спасти не может; но он может и должен стараться о личном своем спасении, о том, чтобы быть в раю, а не в аду, и этому соображению он обязан приносить в жертву даже все политические, культурные и эстетические убеждения и вкусы свои.
Поэтому, если принять и само христианство за смесительную, ассимиляционную (т. е. революционную) силу, способную при повсеместном даже и далеко не полном и кратковременном торжестве своем все-таки значительно уменьшить разнообразие жизни и духа на земном шаре, то и тогда человек, лично верующий во Христа, сына Божия («пришедшаго в Mip грешныя спасти, из коих первый есмь аз!»{16}), не может, не должен, не имеет права противиться этого рода ассимиляции, этого рода окончательной революции. Он обязан даже содействовать ей по мере сил своих и в пределах своего влияния. И пусть гибнет и ослабевает шаг за шагом та полнота и разноцветность жизни, которую мы, люди конца XIX века, еще застали на земле, несмотря на все усилия и триумфы утилитарного европеизма. Пусть гибнет этот turgor vitalis{17}, пусть блекнет все больше и больше тот пышный расцвет истории, в котором жили еще не очень дальние наши предки!
Всеобщему христианству я должен, если это окажется необходимым, принести в жертву: и драгоценные мне национальные особенности моей дорогой Отчизны, и все еще недавно столь великолепное разнообразие исповеданий, бытовых форм, государственных учреждений и даже, быть может, и разнообразие самой природы; ибо христианство роковым образом влечет в наше время за собой повсюду всю опустошительную, подавляющую искусственность новейшей европейской жизни. За католическим или протестантским проповедником следует французский или английский инженер, против ассимилирующих завоеваний которого не в силах уже устоять ни девственные леса, ни песчаные степи!
Отклонюсь еще на мгновение от главной темы моей, для того чтобы еще больше разъяснить то побочное, что в этих письмах моих несравненно важнее главного.
Есть, мне кажется, три рода любви к человечеству. Любовь утилитарная; любовь эстетическая; любовь мистическая. Первая желает, чтобы человечество было покойно, счастливо, и считает нынешний прогресс наилучшим к тому путем; вторая желает, чтобы человечество было прекрасно, чтобы жизнь его была драматична, разнообразна, полна, глубока по чувствам, прекрасна по формам; третья желает, чтобы наибольшее число людей приняло веру христианскую и спаслось бы за гробом.
Я понимаю, что вторую любовь – эстетическую – следует в случае столкновения и неизбежного выбора приносить в жертву последней (христианской); но никто не докажет мне. что человек мыслящий и самый добрый обязан эту же самую эстетическую любовь подчинять требованиям первой, которая одинаково, по существу своему, враждебна и религии, и поэзии; ибо и для той, и для другой необходимы страдания и, нередко, самые сильные и глубокие; а революция утилитаризма и ассимиляции жаждет если не уничтожить, то хоть ограничить донельзя все роды страданий…
Христианство обязывает человека жертвовать во многих случаях поэзией истории – для торжества веры истинной; но никак не для торжества безбожного благоустройства миллионов людей – однообразных, неизвестных мне лично и даже по типу, по быту и по идеалам своим в высшей степени мне противных и ничтожных!
Революция есть всеобщее стремление к смешению, к ассимиляции, к смерти. Но предсмертной ассимиляции христианского характера я обязан содействовать; ассимиляции же утилитарной или демократической я имею право противиться, не только как эстетик, но и как тот же верующий человек; ибо она отвергает все сверхчувственное и духовное.
Я кончил о христианской ассимиляции. Это длинное отступление мое не было случайным увлечением мысли в сторону. Оно было преднамеренно и даже необходимо.
Я, собственно, для Вас, Владимир Сергеевич, распространился об этом. Я желал, чтобы между нами по этому вопросу не было недоразумений, и думал, что Вам легче будет судить того, кто вполне Вам высказался.
Я помню, Вы говаривали мне, что я хоть «одной ногой, да твердо стою на религиозной почве». «Другая же нога Ваша (прибавляли Вы) находится в области эстетики». Это не только остроумно, но и верно; готов согласиться. Но именно потому, что я эти слова Ваши так хорошо помню, я и опасался, чтобы Вы не подумали, что я не в силах и обе ноги поставить, когда нужно, на религиозную почву. Я понимаю, чему стоит жертвовать эстетикой истории, а чему – не стоит. Для спасения загробного и Вашей души, и моей, и многих и многих тысяч других душ – стоит. А для умеренного земного прозябания миллионов неверующих и только трудолюбивых «средних людей» не стоит отказываться ни от войн, ни от дуэлей; ни от буддизма, ни от мусульманства; ни от деспотических царей, ни от надменных аристократов; ни от таких характеров, как Наполеон I, Бисмарк, Екатерина II и… даже Варрен Гастингс, которого Вы считаете позором Англии…
Теперь недоразумение между нами с этой стороны, кажется, уже невозможно. Не правда ли?
Насчет христианской ассимиляции я, кажется, в первый раз объяснился здесь подробнее прежнего; но об ассимиляции утилитарной я писал достаточно, и люди, знакомые хоть слегка с моими сочинениями, могли бы знать, что, по-моему, она-то и есть настоящая революция. Или, наоборот, выражаясь точнее: нынешняя религиозно-политическая и социальная революция есть не что иное, как движение ко всемирной безбожной ассимиляции.
И г-н Астафьев знает отлично, что я так привык мыслить и выражаться.
Почему же он в своей первой заметке начал говорить о восстаниях, цареубийствах, о воззвании Локка «к Небу»?..
Восстания часто бывают реакционные, против ассимиляции и смешения (баски в Испании; наше польское отчасти; Вандея). Посягательства на жизнь государей, президентов, министров и тому подобных могущественных людей бывали также нередко вовсе не революционного (в моем смысле) характера. Нелегально, преступно, ужасно и т. д. – не значит еще в моем смысле революционно (ассимиляционно).
Казнь Людовика XVI действительно имела сознательную ассимиляционную цель. Но уже казнь Карла I в Англии имела двоякое значение; с одной стороны, эта возмутительная казнь была делом либерально-демократической разнузданности, но вместе с тем она имела для Англии и обособляюще национальное, своего рода консервативное значение. Все Стюарты более или менее были склонны к католицизму. Исторические же судьбы Англии требовали резкого церковного обособления (ибо разнообразие частных культур европейских в единстве общих основ в то время росло, а не умалялось, как теперь).
Преступления Жака Клемана и Равальяка были также реакционного характера. Они вызваны были фанатическим служением католическому единству.
Президента Соединенных Штатов Линкольна убил приверженец Южного рабовладельчества; и это – реакция против ассимиляции и смешения. Шведского короля Густава III убил граф Анкарстрем – тоже реакционер, представитель крайне-аристократической партии; значит, тоже – враг смешения. Покушение Жоржа Кадудаля на жизнь Наполеона I было делом легитимистов, людей, тоже желавших соблюсти сословное «дифференцирование».
Все эти последние перечисленные мною преступления и посягательства вовсе не имели в виду той революционной ассимиляции, о которой я говорю в моей брошюре. Все эти нелегальные и преступные действия были, так сказать, анти-революционны; они предпринимались и свершались с целями охранительными: одни в пользу церковного единства, другие в пользу сословного неравенства, т. е. вообще в пользу того состояния общества, которое я называл не раз органическим разнообразием в мистическом единстве, а не в пользу ассимиляции, не в пользу смешения и последующих за ним – разложения и упрощения до степени почти однородных этнографических остатков.
Надо было опровергнуть самую терминологию мою; надо было доказать, что нынешнее революционное движение не есть стремление ко всеобщей ассимиляции; или, иначе, что революцией называть надо всякого рода преступные и насильственные действия против каких бы то ни было существующих властей, а никак не эгалитарный и рационалистический прогресс – во всех его видах и на всех его разнообразных легальных и нелегальных путях.
Тогда было бы ясно, что насильственное, например, и удачное восстановление в современной Франции католической монархии было бы действием революционным; а новейшее потворство социалистам в Германии делом нереволюционным (делом охранительным, реакционным), потому только, что оно легальным путем исходит от самого императора.
До сих пор я думал, что когда хочешь возражать кому-нибудь, то надо или опровергнуть самую терминологию противника, или, приняв эту терминологию, доказать ему, что он из собственных оснований своих выводит неправильное заключение.
Пусть г. Астафьев докажет живыми примерами, фактами, а не отвлеченными рассуждениями: или то, что человечество с XVIII века не стремится ко всеобщей ассимиляции. Или то, что это космополитическое стремление нельзя назвать революцией потому, что оно ничего в себе разрушительного не имеет. Это дело другое. А он сам говорит в конце заметки своей, что нельзя космополитизм (т. е. антинациональную ассимиляцию) признать началом охранительным.
Мне кажется, что я могу ошибаться только в следующем прямом и ясном смысле: никакой ассимиляции нет. Человечество стремится теперь к обособлению в виде групп более прежнего разновидных и разноосновных; создаются новые, крепкие, смелые религии не рационального оттенка, а более мистического (ложные они или нет – с этой стороны – все равно); старые исповедания, со своей стороны, отстаивают себя с величайшим упорством. Государственные учреждения в разных странах все более и более уклоняются от какого-нибудь общего, прежнего прототипа; сословия, цехи, корпорации, конгрегации крепнут в своей исключительности, несмотря на постоянную и ожесточенную борьбу. Провинции, в недрах этих своеобразно устроенных государств, соединены с метрополией своей в самых разнородных сочетаниях: начиная от совершенно рабского подчинения и до полной автономии, почти до независимости.
Что ни шаг, то новый, невиданный в другом месте быт; недопустимые в другом городе или в другой провинции вкусы, обычаи и моды; то, что кажется в одном месте возмутительным и безнравственным, в другом представляется весьма естественным и даже очень милым. Но при всем при этом человечество сознает, до известной степени, свое единство не только физиологическое, но и душевное, умственное. В некоторых, исключительно высших слоях своих оно вступает и во взаимное общение не только посредством насилия и войны (хотя и это случается часто), но и в мирное, умственное общение.
Это умственное общение (чтение чужих, иноземных книг или покупка произведений искусства, например), доступное в большинстве случаев лишь избранным, правящим и самым богатым классам, не может уменьшить разнообразие развития духа и быта, ибо нации вступают в общение только этими верхами своими; низшие же классы остаются при своем неведении чужого, при своих верованиях и суевериях, при своих уже вкоренившихся обычаях и понятиях; а малочисленные высшие представители обеих стран или наций, поставленные между двумя разнородными и могучими влияниями, – между влиянием чужой мысли и упругой самобытностью своей народной почвы, – только глубже и многостороннее развиваются; две-три яркие черты чужой окраски на густом фоне своего национально-государственного воспитания делают их только более совершенными и содержательными и т. д. и т. д. (Таково было, например, высшее дворянство русское при Екатерине II, Александре I и Николае Павловиче[7].) «Вот как идут теперь дела! Какая же тут ассимиляция? Какая же тут революция, если даже и принять мнение Леонтьева, что революция есть ассимиляция, т. е. разрушение всего старого, без замены положительным новым?..»
Да! Если бы оно было так. Но всякий понимает, что дела идут в наше время не по тому пути органического дифференцирования, который я сейчас описал, а по совершенно противоположному. Всякий знает, что нарисованная мною картина гораздо больше похожа на так называемую эпоху Возрождения, чем на наше время; на века XV, XVI и XVII, чем на XIX век.
Можно, пожалуй, доказывать, что космополитическая ассимиляция эта есть благо, а не зло; можно, пожалуй, даже верить, что она приближает историю к торжеству равномерной и рациональной правды и приблизительного счастья на земном шаре.
Хотя и это еще весьма гадательно, но все-таки понятно; я сам могу такого рода счастья человечеству ничуть не желать, но понимаю эту ходячую, эту избитую мысль. Я понимаю, что люди, у которых практическое нравственное чувство преобладает и над религиозными, и над эстетическими потребностями, могут обольщать себя подобными надеждами; могут в доступной им области влияния с весьма честным, хотя и глупым убеждением толкать дальше людей на пути к этой ассимиляции; но, разумеется, самого факта ассимиляции этой не может отвергать ни приверженец ее, ни враг.
Не знаю также, можно ли хоть на мгновение усомниться в том, что этот ассимиляционный процесс действует разрушительным (революционным) образом на все старые религиозные, культурные и государственные организмы или организации?
Настоящая революция проявляется не в насильственных действиях против установленных властей, не в восстаниях; ибо и те и другие могут иметь цели религиозные, монархические, аристократические или вообще национально-обособляющие; а в разрушении всего организованного, т. е. прочно и устойчиво дифференцированного; т. е. все в той же неорганической ассимиляции, в смешении.









