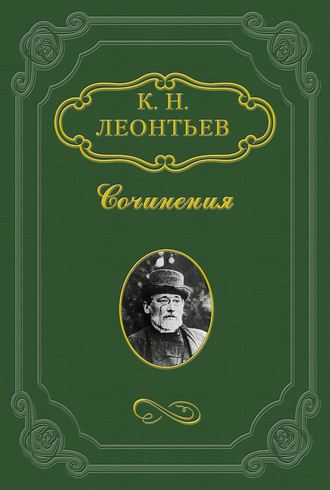 полная версия
полная версияВ своем краю
XIII
Милькеев во всю зиму был всего раза два у Руднева. У него были свои заботы и наслаждения. Он вполне сросся с троицкой семьей; вместе с ней тревожился и радовался, боролся и побеждал. То надо было слишком полнокровного и счастливого Федю привлечь к занятиям; пробовать, с какой стороны его взять; не подкупить ли его анекдотической частью истории, пользуясь тем, что он очень мило рассказывал про Давида, который «вечером с балкона увидал одну девочку; она ему понравилась, и он мужа ее отправил на войну, чтобы его там убили», и прибавил: «Мама! ведь это он скверно сделал?», или прицепить как-нибудь к его ранней страсти ходить в лес с ружьем зоологию и ботанику? Федя, несмотря на свое беспамятство в классе, на воле был очень наблюдателен, рассказывал каждый день новые и комические случаи про форейторов, крестьянских детей и знакомых иногда представлял в лицах. Надо было постоянным внушением добра и кротости смягчать несколько крутую и независимую природу Оли, которая в классе приводила учителей в восторг и в деле точности скоро обогнала старшую мечтательницу, Машу, а Маша отлично писала сочинения, но ни за что не хотела помириться с буквою «ять». Надо было бороться с ami Bonguars'oм, не обижая его. Bonguars требовал, чтобы Катерина Николаевна запретила miss Nelly по вечерам рассказывать детям готические сказки и девочкам играть в куклы. «Волшебные сказки удаляют от здравого смысла, а куклы делают из женщин деспоток», – утверждал он. Насчет точности и всех тонкостей классной эрудиции ему делали уступки, позволили даже читать историю Франции гораздо пространнее, чем нужно («пускай они не будут вполне чужды всему этому блеску, который мы прежде слишком уж любили», – говорила мать); но не только германские фантастические рассказы не были запрещены, но еще позволено было няне-хохлушке, которая приехала с графским Юшей с Кавказа, при – водить детей в восторг старинными песнями и русскими сказками. А сколько хлопот было с Юшей! Его привезли около осени и тут же еще раз убедились, как князь Самбикин глуп: ребенок был вовсе недюжинный и понять его было нетрудно; бледный, нежный до того, что все синие жилы на висках были видны, с мрачными глазами, которые оставались мрачны даже и тогда, когда он смеялся; больной, избалованный и тщеславный, он больше любил отца с густыми эполетами, который осыпал его подарками и учил сквернословить от скуки, чем память матери, боготворившей его. Надо было все сообразить не спеша; как бы не обидеть сироту, обуздывая его? Как укрепить его, постепенно приучая к той грубой и привольной жизни, которую вели троицкие дети, падавшие не раз и с лошадей и в проруби? Сначала Юша часто убегал в темные комнаты, ложился под диваны и плакал там, призывая отца и мать; бил Федю, который горько плакал, не смея тронуть его, из боязни раздавить своей гигантской силой; называл «наемными свиньями» своих наставников, хотел убежать на Кавказ; все это надо было исправить в смышленом и впечатлительном мальчике, у которого были даже свои таланты; например, никто из детей не был так способен к музыке, как он; никто не играл так мило на семейных спектаклях, никто не умел так забавно и с чувством петь хохлацкие песни:
Чи я в поле не калинка была,Чи я в поле не зелена была…Взяли меня да нарвали,В пучечки повязали.И тут же после хохлацкой, французскую скороговоркой:
Un patissier demeurantDans la plaine du Mont Rouge,Avait un bien bel enfant,Qu'on nommait le petit chaperon rouge.Voilà me direz-vous un nom singulier!Que je n'ai jamais vu dans le calendrier…Да и кроме детей, сколько было у Милькеева и работы и развлечений: езда в манеже, коньки, большая библиотека, диссертацию и статью кончать, мимоходом покрасоваться перед Nelly и тут же утешить ученой беседой ami-ennemi Joseph'a, погружаться на целые часы в заграничные издания, ездить к Лихачевым и совещаться с предводителем о каких-то социальных вопросах, играть в войну и в жмурки с детьми – и конца нет! Троицкая жизнь располагала его душу к такой гармонии, что он все это успевал делать, не тяготясь, а наслаждаясь. Когда же ему было часто думать об этом Рудневе, который сам знать их не хочет. Да и Катерина Николаевна говорила: «Оставьте его, дайте ему устояться!» Раз, однако, перед постом, они сошлись в большом лесу, куда оба забрели – один с ружьем, другой с мечтами – и поговорили; другой раз Милькеев ехал в гости и встретил Руднева в дубленке, на дровнях, с больным мужиком; доктор правил сам и поскорее свернул целиком в сторону.
Милькеев узнал от его дяди, сколько он хлопотал для крестьян, и это так понравилось и ему, и Катерине Николаевне, и предводителю, что все начали опять думать, как бы достать его.
Милькеев чаще стал ездить к нему, и они теперь скорее сблизились, чем прежде; начали спорить и судить обо всем, даже ссорились; иногда Милькеев кричал на него с приятным выражением лица: – Что вы напустили на себя эту плебейскую жолчь! Знаете ли вы, что демократические чувства в людях средних, как мы с вами, бывают двух родов: снизу вверх – к князьям, графам, губернаторам, генералам, и сверху вниз – к нашим слугам, мужикам и т. д. Последнее всегда почти исходит из доброго источника: из сострадания, доброты; за все эти чувства мы имеем только одну отраду – возможность уважать себя всякий раз, как почувствуем. А демократическое чувство снизу вверх всегда имеет источником зависть, сознание своего бессилия, или досаду на их преимущества, на богатство, красоту и свежесть, которая у нас, по крайней мере в России, распространена только между мужиками и людьми высшего сословия… Вы, как физиолог, должны понять, что я говорю правду… И те и другие больше нашего пользуются движением, воздухом и душевным спокойствием… Но за что же ненавидеть их и бежать от них? У работника или настоящего мещанина, если есть демократическое чувство снизу вверх и если источник его не совсем чистый, так это, во-первых, извинительно потому, что оно вынуждено иногда стеснениями, и потом к нему примешано столько наивного чувства народности: борода, вербы, иконы, поэзия молитвы и постов, которых мы не соблюдаем, и это ему не нравится в нас. В аристократе же, если есть демократическое чувство, так оно всегда признак или большой доброты, или политической дальновидности. А то из чего ему хлопотать, скажите?..
Иногда Руднев был жолчен и болен, и тогда резко отвечал своему новому приятелю: – Что у меня на душе – не знаю! Быть может, ничего! Но дайте мне, молю вас, дайте одному тосковать, одному, не торопясь, работать, когда свежо, и дремать, созерцая по целым часам и дням, когда скучно и что-то слабо. Оставьте, ради Бога, ради Бога оставьте! Я даже и мыслить не буду, не презирайте только меня за то, что я брожу туда и сюда и повторяю: «Боже! что за мука!» Кому до этого дело? Мне легче так, и я этого никогда стыдиться не буду… Выйду из этого, когда захочется выйти, а теперь не хочу. Вот и все…
– Однако вот вы, на днях, плелись с больным мужиком!..
– Это, батюшка, другое дело! Когда в свежее утро Руднев будет молодец и строг и этот строгий Руднев спросит у вялого Руднева: «Что ты делал, когда глазам было на свет Божий больно смотреть… Спал?» – «Нет, я со злостью, с ленью, со скукою влез на мужицкие сани и по холоду тащился в город со скрежетом зубов… Я тогда не усиливался думать и мужика этого вовсе не любил, но лошадь везла в город и привезла… А злое лицо мое, может быть, еще заставило Воробьева скорей мне дать инструмент; а правила операции тут… их не выбьешь из головы…» Вот строгий, но и добрый Руднев и скажет вялому и злому: «Ну, это еще, брат, ничего… Можешь жить, то есть, извините, не жить… Это ваше дело жить, а с нас и существования довольно!..» Но как скрыться от людей?
Однажды – вечер был лунный; Руднев прохаживался по большой комнате, а дядя сидел у окна, и они уже собирались зажечь свечу и сыграть перед ужином в шашки, как вдруг раздался колокольчик, и перед двором, заметенным сугробами, показалась кибитка тройкой, попала с розмаху не туда, куда надо – завязла; из нее выскочил мужчина и, шагая с трудом через снег, поспешил к крыльцу. Удивленные хозяева встретили его со свечой в сенях и увидели князя Самбикина…
– Я к вам, доктор, к вам с тройкой и с просьбой. У сестры моей умирает ребенок… Вот она пишет к вам.
– Я частной практикой не занимаюсь, – отвечал Руднев угрюмо следуя в горницу за князем, не снимавшим даже шубы.
У Владимiра Алексеевича, который хотел было кликнуть заснувшего в прихожей Филиппа, чтобы поскорей подал доктору теплые сапоги и все, что нужно, оборвался голос… Дергая бровями, стоял он на месте со свечой и глядел то на князя, то на племянника.
– Разве кроме меня нет врачей? Воробьев, Вагнер и другие есть…
– Когда дитя опасно, Вася, – сказал дядя.
– Опасность часто преувеличивается родными. Я ведь не занимаюсь частной практикой – и мне… наконец… я имею право… не ехать к тем… которые в силах платить… Есть другие доктора.
– Воробьев на следствии; Вагнер стар, а в город далеко посылать… Сестра сама вам пишет, – вкрадчиво умоляя, продолжал князь и достал дрожащими руками из-под шинели записку… Неожиданное упорство Руднева так его взбесило, что он насилу отыскал ее в кармане.
– Не угодно ли вам, князь, шубу снять и присесть, – сказал Владимiр Алексеевич, пока Руднев читал записку…
– Когда тут сидеть… помилуйте! У ребенка, кажется, круп…
«Умоляю вас, доктор, войдите в положение матери, у которой всего один сын… Ради всего святого не откажитесь приехать… Я знаю, что вы не любите ездить никуда, но сделайте на этот раз исключение… Требуйте от меня что хотите».
– Если в самом деле никого другого достать нельзя!.. Филипп – сапоги!
– Филипп, сапоги! – повторил Владимiр Алексеевич…
Тройка князя Самбикина была превосходная, и через час, не более, Руднев был уже за 20 верст у крыльца двухэтажного дома. Окна все были освещены; внутри все ново и по моде. В прихожей встретил доктора высокий, сухой, плешивый мужчина, щегольски одетый; в залу выбежала молодая мать, русая красавица с заплаканными глазами. Растрепанная одежда ее была изящна и богата.
«Тоже чувствует!» – подумал доктор, подходя к детской.
Крупа еще не было, но кашель внушил Рудневу подозрение, и он, подумав, тотчас решился действовать, как будто перед ним был круп в полной силе. Лекарства он захватил от себя. Обнадеженная немного мать старалась занять его разными расспросами; отец повел его в свой кабинет, показывал ему образчики прошлогоднего овса, пшеницы и полбы.
Князь Самбикин водил его под руку по освещенной зале, упрашивая ночевать и уговаривая вообще покинуть свое одиночество. Рудневу хотелось спать, и он остался. Ребенку стало легче на другой день; Руднев хотел ехать, но мать заплакала, и он остался.
Горесть этой красивой женщины, которая всю ночь, одетая, пролежала поперек двухспальной кровати, у ног своего божества, потому что Коля метался в своей маленькой кроватке – сильно тронула доктора; да и сам ребенок был такой исполнительный, покорный больной… когда ему ставили мушку, он сначала не хотел, а потом скрепился и сказал, понукая сам себя: «Ну, тащися, сивка!» Нельзя сказать, чтобы следующий день прошел весело; в доме все лоснилось и сияло: бронза, мебель, хрусталь и серебро; обед был отличный; но разговоры так пусты и чужды Рудневу, что он очень обрадовался неожиданному появлению старого своего знакомого Богоявленского. Он приехал в больших санях с какой-то высокой, удивительно миловидной, русой девушкой, которую Полина обняла и назвала Любашей.
Князь Самбикин объявил доктору тихо и как бы таинственно, что «эта девушка – племянница мужа его сестры…» – А Богоявленского ведь вы знаете, – прибавил он, – его по вашей же рекомендации пристроили в дом к Авдотье Андревне Забелиной, к матери Платона Михайлыча – моего зятя… Он, кажется, очень хороший человек и об вас часто вспоминает и все удивляется, что Полина не откажет Воробьеву и не возьмет вас годовым… Это он нам подал мысль пригласить вас, когда мы вчера совсем растерялись.
В самом деле, улыбка Богоявленского при встрече с Рудневым была естественнее ядовитой и отвратительной улыбки в утро их первого знакомства.
Крепко жать руку он не умел, а подавал какой-то холодный и мягкий кусок мяса; но словами выразил свою признательность тотчас же.
– Очень рад вас видеть, Василий Владимiрыч, – сказал он, – я, благодаря вам, переминаюсь кой-как теперь… Спасибо вам…
– Вам хорошо в семье этой? – спросил Руднев.
– Э! Разве бывает хорошо в семье! – отвечал Богоявленский, махнув рукой. – Четыреста рублей! Вот, что хорошо! А семья мерзкая, как почти все наши русские семьи. Ну, да их к ладу, или к чорту; а я сюда приехал ведь вас в эту мерзкую семью звать. Как бишь это – Петру апостолу не велено было для пропаганды и гадиной брезгать…
– Да что такое, болен что ли кто-нибудь?..
– Вот этой барышни папа нездоров, – продолжал Богоявленский, указывая глазами в сторону Любаши, которая у окна шепталась с хозяйкою дома. – Барышня, как водится, не выдерживает критики, но получше своей обстановки. Не надеялась на убедительность своих речей и, по совету бабки, взяла меня с собою. Я очень рад, долг платежом красен… Не откажите моему удовольствию вам заплатить услугой за услугу. Ведь к такому рассчитанному обмену услуг не должен ли прийти весь мiр? Хоть и небогаты, а деньги вам дадут…
– Да что я вам дался! – сказал с сердцем Руднев, – нет у них Воробьева! Человек светский с перстнями, с цепями, завитой. Про министров и графов все рассказывает… Гораздо лучше.
– Тут целая история! Старик немного тронут… Любовь Максимовна, а Любовь Максимовна, потрудитесь доктору объяснить, отчего ваш папа не хочет Воробьева…
Любаша подошла, чуть-чуть краснея и заметно удерживая свои свежие губы от привычной улыбки.
– Да, пожалуйста, поедемте к нам, – сказала она. – Папа терпеть не может Воробьева: он все боится, что Воробьев отравит его. У папа бывает это временем…
– Да говорите просто, Любовь Максимовна, – перебил Богоявленский, – что это? Это значит периодическое умопомешательство. Чего тут стыдиться; вы разве виноваты?
Полина, убедившись, что ее сыну легче, стала тоже просить Руднева съездить с Любашей, переночевать там и поутру возвратиться опять к ней.
Пришлось ехать в санях вдвоем с Любовь Максимовной.
В передней хозяин дома схватил Руднева за обе руки, долго и выразительно жал их, приговаривая: «Благодарю, благодарю», и оставил в одной из рук его пакет с деньгами. А Богоявленский, прощаясь с ним, сказал: – Вы поедете с Любовь Максимовной; а мне кстати надо провести сегодня вечер на крестинах, у здешнего отца Парфения – еще обогатил нашу касту отпрыском – родил сына…
– Желаю вам веселиться, – отвечал Руднев, надевая свой бараний тулуп.
– Веселья-то мало; а уж так пришлось. А вы, Любовь Максимовна, смотрите, моего доктора не конфузьте дорогой. Он стыдлив, должно быть, сгорит от стыда, и вашему папа будет хуже, если вы в Чемоданово привезете одну груду пепла…
Любаша усмехнулась, Руднев поморщился и ввалил свой тулуп в сани около бархатного салопа цветущей девушки. Атеист, насмешливо проследив за ним глазами, сошел с крыльца и задумчиво побрел к священнику.
Уж начало смеркаться, и мороз немного спал; заря занималась за лесом после сверкающего дня. Долго мчались по накатанной дороге Любаша и Руднев; по узким лесным дорогам ехали тихо, чтоб не сломать об деревья сани, а на открытом поле кучер кричал, и летели; только держись.
– Хорошо ехать в санях! – сказала Любаша.
– Недурно, – отвечал Руднев.
– И погода сегодня славная. Завтра тоже будет хорошая. Заря такая чистая. А вы не озябли?
– Нет, – отвечал он, – не озяб что-то… Когда же тут успеть озябнуть.
Уже видно было имение родных Любаши, и очень заметна была одна еловая аллея в саду, между другими голыми деревьями, когда Любаша опять обратилась к Рудневу: – Вы не показывайте виду папа, что вас для него привезли: скажите, что для тетушки Анны Михайловны. Она тоже часто нездорова. Он сегодня смирнее стал, оттого что бок сильнее болит, а третьего дня сорвал с тетеньки мантилью и бросил в печь… И еще когда будете входить к нему, осторожнее в дверях: он как рассердится на всех, вынимает половицу около порога, чтоб никого не пускать в свою комнату… Прошлого года тетушка Анна Михайловна провалилась под пол… и только одной рукой удержалась.
При этих словах Любаша, заранее начавши улыбаться, засмеялась так громко, что кучер обернулся, взглянул на барышню и тоже захохотал.
Через минуту сани остановились у крыльца чемодановских хором.
XIV
Руднева провели по темному коридору в пустую комнату и оставили одного с сальной свечой. Немного погодя пришла горничная, принесла стеариновую и приняла сальную свечку. В соседней комнате шептались. С полчаса посидел он один. Наконец вошла Анна Михайловна. Вприпрыжку подбежала она к доктору и подала ему дрожащую и худую руку.
– Вы озябли? – сказала она, совсем приближаясь к нему лицом, – сейчас принесут чай. Mon frère va très mal… Садитесь, пожалуйста… мы все так огорчены… Садитесь, пожалуйста… Вообразите себе (она еще больше придвинулась к нему и обрызгала ему лицо слюной)… он ажитируется страшно… Третьего дня прогнал дьякона и простудился… Когда он в ажитации, он терпеть не может, чтобы его кто-нибудь спрашивал о здоровье. Дьякон пришел и спросил у него, только всего и спросил: «Как ваше здоровье, Максим Петрович?» И Боже мой!.. C'est affreux!.. Вон, дурак, скотина, вон, дурак, скотина!.. Гнался за ним в переднюю, на крыльцо, на двор… Пришел домой, и в боку немного погодя заболело. Все пробовали: горчичники, липовый цвет, бузину, – все давали…
– Позвольте же мне видеть больного, – сказал Руднев.
– Нельзя вдруг, никак нельзя вдруг. Избави Боже! Un médian tout а coup!.. Он придет в бешенство. Надо вас просто познакомить. Сказать: приехал Руднев… Позвольте узнать, как ваше имя… Василий…
– Владимиров…
– M-r Basile. Мы ему скажем… M-r Basile Руднев. Вы пробудьте у нас дня два-три и как-нибудь уговорите его приставить пиявки. Я уж не знаю, право, что делать… Даже домашнее что-нибудь трудно предложить ему… У него страшно ведь болит бок!
В эту минуту послышался шорох шелкового платья, и вошла Любаша.
Она сказала, что к отцу можно, что напрасно тетка беспокоится, что Малаша неосторожно проговорилась о приезде доктора, и старик спросил только у нее: «Какой это доктор, Руднев, что ли?» И когда ему сказали, что Руднев, он успокоился и прибавил: – Для Анны Михайловны?
– Да, папа, для Анны Михайловны…
– Ну, пусть и ко мне зайдет…
Анна Михайловна была, по-видимому, рада и, шатаясь, пошла вперед. Любаша и Руднев за нею.
– Сколько верст отсюда до Троицкого: кажется, верст двадцать пять? – спросила девица.
– Да, будет около этого, – отвечал доктор.
– Я проезжала через Троицкое несколько раз. Как у них хорошо; я бы хотела там побывать.
Руднев не отвечал.
– У Полины тоже дом хороший, только там как-то, мне все кажется, должно быть лучше.
– Да, Новосильская хорошо живет, – сухо отвечал молодой человек.
Любаша замолчала, увидав, что он так неохотно разговаривает, и они перешагнули вместе через яму порога. Старик сидел с кочергой у печки, когда Руднева ввели к нему.
– Папа, Василий Владимірыч Руднев, – сказала Любаша.
Старик покашлял, исподлобья посмотрел на него и протянул руку.
– Вы доктор?
– Да, я медик…
– Что значит медик? Вы хотите сказать: лекарь?
– Да, лекарь.
– Иностранные слова! – промолвил старик, все не спуская глаз с Руднева. – Медик… облагородить… Ну-с, г. медик… очень рад вас видеть… Прошу садиться…
Любаша смеялась, отойдя к окну. Руднев сел и молча наблюдал больного. Старик покашлял, вздохнул и, поглаживая бороду, продолжал смотреть на своего врача.
– Вы в Московском кончили?
– В Московском.
– Хороший университет, славный. Педагоги ваши всем известны.
Тут он вдруг засмеялся.
– У меня был один знакомый, из вашего университета – учитель. Его утопили в реке товарищи.
Сказав это, старик хотел захохотать, но схватился за бок и закашлял.
Руднев хотел броситься к нему и протянул уже руки к больному боку, но Максим Петрович отстранил его.
– Ничего, это пройдет. Ну-с, так его утопили товарищи…
– Зачем же? – спросил Руднев.
– Зачем?! Что за вопрос!.. Чтобы не было его, чтобы утонул… Цель, кажется, ясная?.. А за что? Вот это другое дело. Хороший был человек, начальство его любило, награды получал. Они напились пьяны и утопили его. Вы, может быть, хотите мой пульс попробовать?
– Позвольте…
– Извольте… Вы не поляк и не жид… Главное, вы Воробьева знаете?..
– Знаю.
Старик ядовито усмехнулся и велел дочери достать из шкапу склянку.
– Ту, знаешь… Любаша его отговаривала.
– Да ведь она запечатана.
– Ничего, опять запечатаем. Вот, видите эту склянку… Я ее запечатал, хотел послать во врачебную управу… Воробьев этот – друг закадычный Анне Михайловне… Вы, небось, видели Анну Михайловну. Как она вам понравилась?…
Руднев пожал плечами.
– Вы пожимаете плечами. Это резонно! Не стоит и спрашивать! Так вот эта Анна Михайловна просила его прописать мне рецепт. Он прописал… Я ничего. Пусть пишет и пошлет в аптеку, а я все буду молчать, все ничего не скажу. А как привезли, я увидел эту стклянку. «Нет, говорю, брат, постой. Я знаю, что это яд… Злейший яд!..» У меня была собака… так, собачонка дрянная, дамская… Ну, а я к ней привык, любил ее; однако не пожалел ее, дал ей ложечку… Вмиг – судороги и смерть… А это не яд?… это не яд? скажите мне, это разве не яд?
– Позвольте посмотреть.
– Смотрите, нюхайте… что же это по-вашему, г. медик?
– Это, точно, подозрительно, – сказал Руднев, – я возьму с собой, если вы мне доверите, и постараюсь исследовать его… Впрочем, все яды полезны; надо знать, в какой болезни и в какой мере… Воробьев – человек скверный.
– Ну, да, да, разумеется, в какой мере… Возьмите себе эту стклянку… Я вам верю.
Руднев поклонился.
– А ваш бок? – сказал он.
– Бок болит. Я, впрочем, сделаю все, что вы мне посоветуете. Матушка и Любаша (вот эта барышня, которая стоит у окна… это – дочь моя Любаша… – с небрежностью прибавил он) – так вот эта Любаша и матушка все жалуются, что я не лечусь… Я сам говорю: дайте мне доктора, а у Воробьева я лечиться не буду… Что это за доктор! Постойте-ка, Любаша, выйди-ко вон.
– Зачем это? – с неудовольствием сказала дочь, – разве вы не можете при мне говорить?
– Ах, матушка… Пожалуй, останься, коли у тебя стыда нет! Мало ли о чем мужчина доктору может говорить…
Любаша поскорей ушла, а старик схватился за бок и, стараясь не охать, качался от радости на кресле…
– Ушла девчонка! – начал он, и лицо его сейчас же стало опять грустно. – Я очень рад, как вас там зовут… с вами поговорить. Мне сдается – человек вы хороший. Скажите мне, между прочим, отчего бывает гной на крови, которую выпускают из руки перед смертью. От яда этого не бывает?
– Гноя никогда не бывает на выпущенной крови, Максим Петрович.
– Не бывает? А что ж бывает?
– Кора такая белая бывает, воспалительная кора…
– От яду?
– Нет, зачем от яду? Эта кора бывает в разных случаях: при воспалениях некоторых, иногда у беременных женщин фибрин…
– Фибрин – это яд, как стрихнин?… Не дают ли его беременным?
– Нет, позвольте, дайте мне досказать: фибрин – это вовсе не яд: это – нормальное вещество… Что с вами, что с вами?
– Ах! чорт возьми, бок проклятый, бок… Помогите мне лечь. Эх! чорт побери, дьявол… Ой!
Любаша, которая ждала за дверью, вбежала, вместе с Рудневым сняла с отца халат и уложила его в постель. В доме были пиявки; Руднев сам поставил тотчас их Максиму Петровичу. Любаша все время не отходила от него, измаралась в крови; старик лежал и молча слушался, беспрестанно переводя задумчивый взгляд с дочери на молодого человека, а с него на дочь.
– Вы верите, доктор, в животный магнетизм? – спросил он только раз.
– Верю; а что-с?
– У вас он есть; вы как меня тронете руками, так приятно станет… Эх, как приятно! Подите в магнетизеры! А?
– У меня слишком мало душевной силы, чтобы быть магнетизером, – отвечал Руднев.
Когда Максиму Петровичу после пиявок захотелось спать, Любаша увела Руднева в большую темную залу с пляшущими половицами и спросила его: – Он вам, верно, говорил об крови, об яде?
– Говорил. Что это значит?
– Это всегда… Вы что ему сказали?
– Я сказал, что гноя на крови не бывает, а то, о чем он думает, бывает не от яда.
Вслед за этим вбежала Анна Михайловна и спросила у Любаши: – Est-ce qu'il a parlé?
– Да, я уж сказывала, – отвечала Любаша по-русски.
– Toujours ces bêtises?
– Все то же.
Анна Михайловна внимательно посмотрела на племянницу и печально покачала головой.









