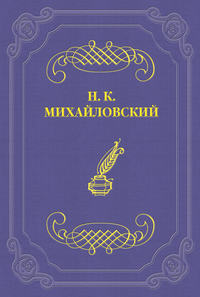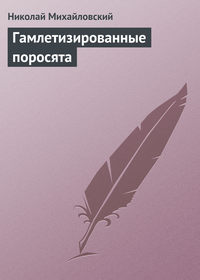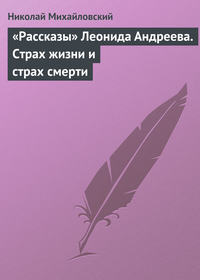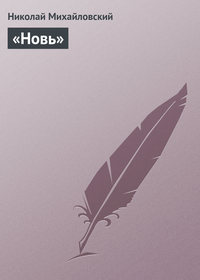полная версия
полная версияГ. И. Успенский как писатель и человек
– Где вы были? – в необыкновенной тревоге (все это совершалось с ужасно озабоченным видом и с действительной тревогой) обратился ко мне Иван Сергеевич, – вы имели успех! вас зовет публика! Где вы пропали? Я вас хотел вывести! Ведь вас звала публика! и т. д.
„Вычеркните это! А то княгиня Т. будет недовольна!“ – „А Мерена можно оставить?“ – „О, это оставьте“. – Вообще оставляли всякое свинство, а вычеркивали „неприятное“.
Надо заметить, что большое общество, толпу, Глеб Иванович любил, но под условием быть самому в ней незаметным, не обращать на себя внимания. Г-же N он писал из Перми в 1884 году: „До чего трудно жить на свете, имея „известность““, – просто ужасно: слова не добьешься человеческого, все говорят как с литератором. Чаю нельзя напиться, как хочется: сесть, положивши ноги на стол, сказать вздор – невозможно. Все надо умное, отчего и выходит одна глупость». А с дороги в Пермь он ей же писал: «Не можете ли вы прислать мне в Пермь до востребования телеграмму такого содержания: „С П. можете видеться“, если это возможно… Между Екатеринбургом и Тюменью есть одно село в 7 верст, и если мимо этого села идет строящаяся железная дорога, то я у П. попросил бы только записку к кому-нибудь из служащих самого низшего разряда, чтобы мне пожить в этом селе день, два, три. А то все будут пялить глаза».
Глеб Иванович ошибался, думая, что на него «пялят глаза» и ищут общения с ним только потому, что он литератор. Конечно, и это было, особенно ввиду его популярности – мимоходом сказать, он и этой популярностью временной тяготился, вследствие чего, как известно, и подписывался одно время под своими очерками псевдонимом «Г. Иванов». Он привлекал к себе внимание и людей, не знавших, с кем они имеют дело. Как-то мы ехали с ним из Москвы – он до своего Чудова, я до Петербурга. В том же вагоне ехал какой-то пожилой офицер. Он долго прислушивался к нашему разговору, пересаживался все ближе и ближе, улыбался и наконец не выдержал: решительно пересел рядом, вмешавшись в разговор каким-то замечанием. Мы уже подъезжали к Чудову, и незнакомец, узнав, что Успенский сойдет на этой станции, спросил, где же он тут живет. Успенский указал в окно на чуть видную церковь деревни Сябринцы, где он жил, а из дальнейшего разговора оказалось, что семья его теперь в Петербурге и он будет жить некоторое время совсем один. Это поразило незнакомца, он задумался, и когда мы, простившись с Глебом Ивановичем, поехали дальше, в Петербург, сказал мне: «Я все думаю: как этакий человек живет один… все представляю себе занесенный снегом домишко, и в нем этакий человек!» Остальную дорогу мы вяло перекидывались незначительными фразами, и только прощаясь со мной в петербургском вокзале, незнакомец спросил, кто был так поразивший его случайный сосед по вагону. При этом оказалось, что имя писателя Успенского ему незнакомо, – это был человек совершенно чуждый литературе. И не один такой случай я знаю, конечно, не всегда с таким концом. Случалось, что дорожные спутники (а он, как сейчас увидим, постоянно был в разъездах), как-нибудь узнав, с кем они имеют дело, тем восторженнее и любовнее относились к нему. У нас, близких к нему людей, выработалось даже шуточное прозвище для его многочисленных, не дававших ему проходу поклонников и поклонниц: мы называли их «Глеб-гвардией».
Когда Успенский заболел, литературный фонд, не раз и прежде выручавший его из трудного положения, стал высылать на его надобности в больницу, где он находился, известную сумму ежемесячно. Сумма эта была очень невелика, но она шла исключительно на некоторые мелкие личные нужды, покойного, на табак и т. п. Материальных забот не он главным образом требовал, а его семья (жена и шестеро малолетних детей), оставшаяся с его болезнью без всяких средств. Честь поддержки этой семьи до того момента, когда дети станут на ноги, взял на себя кружок друзей. С этой целью собран был из единовременных и периодических взносов особый «капитал семьи Успенского», хранившийся в литературном фонде, но совершенно от него независимый, при помощи которого задача и была благополучно выполнена. Первоначально план поддержки был рассчитан на шесть лет, но прилив данников любви и уважения к Успенскому оказался достаточным, чтобы расширить задачу еще на два года; и трогательно было видеть в списке этих добровольных данников, рядом с тысячными вкладчиками, вкладчиков грошовых.
Любопытно также отношение к Успенскому врачей, которым он, естественно, доставлял много беспокойства и неприятностей. Он был в трех больницах: очень недолго у д-ра Фрея в Петербурге, потом в Новгородской Колмовской больнице, которою заведовал д-р Синани, и, наконец, в Новознаменской, находившейся под управлением д-ра Реформатского. Как бережно и любовно относился к нему Б. Н. Синани, это читатель уже видел и еще увидит из дневника доктора. А д-р Реформатский, перешедший из Новознаменской больницы на другое место незадолго до смерти Успенского, говорил мне, что ему особенно тяжело было расставаться с Глебом Ивановичем, хотя и трудно приходилось иной раз с ним ладить.
Любовь, которую Успенский возбуждал во всех, кто приходил с ним в соприкосновение, осложнялась, с одной стороны, почтением к его блестящему таланту и высоким нравственным качествам, а с другой – чувством жалости. Людям прямолинейным или мало наблюдавшим жизнь может показаться неестественным, невозможным такое сочетание жалости, предполагающей отношение сильного к слабому, здорового к больному, старшего к младшему, вообще отношение сверху вниз – с почтением, предназначающим, наоборот, отношение снизу вверх. Но жизнь много сложнее тех рамок, в которые ее поневоле втискивает наша бедная терминология, и я уверен, что сочетание жалости и почтения знакомо всем, кто имел счастие сколько-нибудь близко знать Успенского. Это было счастие, как всякое общение с богатою натурою, и притом редкое счастие, потому что всякая оригинальность есть редкость, а в Успенском каждый вершок был оригинален, как в короле Лире каждый вершок – король. Оригинален был ход его мысли, оригинальна форма его писаний, оригинален язык, письменный и устный, оригинальны его отношения к людям и весь склад его жизни.
Почтения заслуживала в нем прежде всего эта неустанная и тяжелая борьба «Глеба» с «Ивановичем» и со всем, что в окружающем мире родственно последнему. Об этом мы уже говорили и еще будем говорить. Что же касается жалости, то начать хотя бы с его полной практической беспомощности и беспорядочности. Он был большой искусник в теоретическом построении практических планов – всегда у него было все обдумано до мельчайших подробностей. Он и другим, в том числе и мне, случалось, давал истинно превосходные советы, как устроить дела в том или другом отношении, но его собственные дела были всегда и во всех отношениях плохи, и превосходно обдуманные планы разбивались при самом приступе к их исполнению: выходила «ахинея» и «чепуха», как он мне однажды писал.
Редакции журналов и газет, в которых он участвовал, всегда высоко ценили его сотрудничество, сочинения его издавались не раз, а между тем, постоянно работая, он постоянно же и нуждался; нуждался всегда, сейчас, сию минуту, не думая о будущем. Этим, конечно, пользовались ловкие люди, как ни старались оберечь его близкие к нему. Вот, например, сохранившаяся в его бумагах записка Некрасова:
«Глеб Иванович, по документам вашим я убедился, что ваши сочинения могут быть выручены от Базунова; то же думает Унковский. Мы уговорились с ним пересмотреть еще вместе эти документы, позвать Базунова, устыдить его и взять от него записку. Но вот в чем дело: вы не так поняли ту роль, которую я могу взять на себя в качестве издателя: я не желаю покупать у вас ваши сочинения, я думал издать их на свой счет, выручить свои деньги и затем остальной доход предоставить автору. Если вам это неудобно и вы можете найти для себя условия более подходящие, то не стесняйтесь. Деньгами наличными я в сие время беден».
Очевидно, план практического, но доброжелательного Некрасова был выгоден для Успенского, но результатов этого плана пришлось бы ждать, а деньги нужны сию минуту, чтобы заткнуть глотку какому-нибудь ростовщику; и Успенский предпочел остаться в тисках Базунова, может быть прибавившего благодаря настояниям Некрасова и Унковского грош к тем двум грошам, за которые он купил издание. Не таковы, разумеется, были мотивы его позднейших издателей, И. М. Сибирякова и Ф. Ф. Павленкова. Напротив, в их действиях, насколько они мне известны, видна даже какая-то излишняя опека и заботливость о будущем Успенского и его семьи. Но, не говоря уже о том, что опека эта своей цели не достигла, она была обставлена столь сложно и запутанно, что я никогда не мог понять ее сути, как, впрочем, и вообще финансовых планов Глеба Ивановича. Его письма к редактору-издателю «Русских ведомостей» переполнены тонко и чрезвычайно точно разработанными планами погашения авансов (за эту тонкость и точность Салтыков называл его «министром финансов»), но из тех же писем видно, что едва ли хотьодин из них был приведен в исполнение и не отменялся через короткое время другим, столь же обстоятельным и сложным. С деньгами он вообще совершенно не умел обращаться и, когда они у него были, швырял их во все стороны совершенно, как говорится, зря. Если слова «презренный металл» имели когда-нибудь для кого-нибудь буквальное значение, так это именно для Успенского. В старые годы я собирал для своих детей с педагогическими целями разные коллекции: в том числе была коллекция древних и иностранных монет. Увидев ее у меня однажды, Глеб Иванович даже в ужас пришел: как! деньги детям! Он полагал, что персидские монеты времен Сасанидов или китайские медяки с дырками посредине, представляющие собой все-таки «презренный металл», должны дурно повлиять на детей…
Беспорядочность и практическая беспомощность ставили иногда Успенского в истинно трагические положения, хоть в то же время его блестящие планы выхода из затруднений не могли не производить комического эффекта. Тем более что его беспорядочность проявлялась не только в денежных делах. Так, в своих непрестанных разъездах он то и дело забывал или терял нужные ему вещи, которые, впрочем, тут же оказывались, пожалуй, и совсем ненужными. Прожив однажды с месяц вместе с ним в Кисловодске, я получил потом письмо, в котором было, между прочим, следующее: «Одеяло осталось мое – прошу М. П. взять его к себе, и когда поедет, то пусть возьмет или просто подарит старику (дворнику). А вот папиросник я забыл, кажется, в жестяной коробке. Его вы уж возьмите, пожалуйста, и пусть он будет у вас». Забыв в квартире В. М. Соболевского бумажник, он пишет: «Бумажник мой не бросайте на столе, там есть разные секретцы – нехорошо, если кто прочитает». В Нижнем Новгороде с его багажом приключилась раз какая-то очень сложная история, из которой он выпутывался в письме к В. Г. Короленко так: «Сегодня послал я вам доверенность{52} на получение моего хоботья, но, кажется, переврал адрес. Написал: Больничная, д. Пенской, а надобно, кажется, Панковой. Посылаю это письмо наудачу, без всякого адреса, а просто в Нижний, вам. Хоботье мое пусть лежит у вас столько, сколько оно захочет».
Все это смешно, но надо помнить, что все это проделывает вечно трепещущий, мучающийся и возвышенно настроенный человек.
Чтобы оценить, во что обходилась Успенскому его внутренняя жизнь, надо принять в соображение его «обнаженные нервы»– я не знаю никого, к кому это, изобретенное кем-то из наших ломающихся декадентов выражение так подходило бы{53}. Одно из самых ранних его писем к жене (1868) содержит в себе, вперемежку с разными ласковыми словами, такие сообщения и восклицания: «Вдруг сию минуту (11 часов ночи) хлынул страшный дождь, до ужаса страшный, просто ужас, ужас. Я боюсь тушить свечу… Молния! Смерть моя, и гром. Ужас… Ей-богу, я умру!» Он боялся собак, лошадей, крутых спусков с гор, во время купанья кричал, входя в воду, и т. п. Обобщить все это простым словом «трусость», однако, нельзя. Во-первых, он боялся не только за себя. Ездить с ним на извозчике бывало иногда истинным мученьем, пополам со смехом. Опасности чудились ему постоянно, и не только для себя, но и для других: едущий впереди седок, пересекающий конку в добрых трех саженях от нее, приводил его в волнение: сейчас попадет под конку! Затем, в нем проявлялись иногда черты, которые уж никак не мирятся с трусостью. Один наш общий приятель рассказывал мне, как однажды в Париже, на его глазах и отчасти из-за него, разгневанный грубостью полицейского сержанта Глеб Иванович схватил его за шиворот и уже замахнулся палкой; история кончилась благополучно благодаря вмешательству стоявших поблизости французов, узнавших, что сержант имеет дело с иностранцами. Обыкновенно деликатный и кроткий («зачем я буду будить в человеке свинью?» – говорил он в объяснение своей даже чрезмерной деликатности), он иногда способен был на резкие вспышки, в которых потом всегда каялся. Однажды он буквально выгнал от себя некоего г. П., в котором свинья проснулась уже слишком явственно. Через несколько дней после этого он писал мне: «Кажется, я окончательно скоро исчезну с лица земли. Целые дни не могу встать с постели. Оттого и к вам не иду. П. прислал мне письмо, но я его не читал. Я так болен, что боюсь, если он меня огорчит, – совсем не буду в состоянии работать». Решившись наконец распечатать письмо, он остался доволен его содержанием, и дело кончилось миром. Вообще в применении к нему мудрено говорить о трусости или смелости. Все дело было в обнаженных нервах, которые разно, в ту или другую сторону, но всегда сильно реагировали на впечатления.
VII
После закрытия в 1884 году «Отечественных записок» я некоторое время не работал для печати – никуда не тянуло. Глеб Иванович очень сетовал на меня за это. Однажды, в ответ на его упреки, я сказал: «Я готовлю большой, многотомный труд и скоро напечатаю». Он очень обрадовался: «Ну вот, это превосходно! А о чем?» – «Есть, видите ли, „анекдоты о Суворове“, „анекдоты о Петре Великом“ и т. п., а я хочу написать „анекдоты о Глебе Успенском“…» Глеб Иванович огорчился…
Разумеется, я шутил и никаких «анекдотов о Глебе Успенском» писать не собирался. Но такое произведение, хоть и не многотомное, вполне возможно и представило бы немалый интерес. Для понимания людей, в такой мере оригинальных, как Успенский, анекдот есть очень важное подспорье, и я приведу здесь кое-что из запаса своей памяти.
Начну со случая, свидетелем которого сам я не был. Рассказал мне его участник происшествия, ныне также уже покойный, Н. В. Максимов, и Глеб Иванович конфузливо подтвердил верность рассказа. И поистине было чего конфузиться… Некто, скажем Z, сошел с ума. Помешался он на том, что он сын и наследник, помнится, шведского короля и должен получить откуда-то миллион. Пришлось, наконец, отправить его в больницу. И вот под предлогом, что ему предстоит получить сейчас шведские миллионы, его посадили в карету в сопровождении Успенского и Максимова. Дорогой Z оживленно развивал свой пунктик и строил разные великолепные планы. Успенский слушал, слушал и наконец не выдержал неправды, которую должен был поддерживать. «Господин! – взволнованно сказал он. – Вас совсем не за наследством везут, а в сумасшедший дом…» Можно себе представить, что после этого не легко было доставить больного в больницу…
Нечто подобное было на моих глазах в одном частном доме, во время опытов известного гипнотизера Фельдмана{54}. Г-н Фельдман привез с собой молодого человека, чрезвычайно легко поддававшегося его внушениям, но никому в собравшемся обществе не известного. Это обстоятельство вызывало некоторое недоверие к блестящему успеху опытов. В числе присутствующих оказался студент, не раз подвергавшийся гипнозу, и его стали просить принять участие в опытах. Он долго отказывался, но наконец согласился, под условием, однако, чтобы над ним были произведены самые элементарные опыты и держали его в состоянии гипноза недолго. Ему это было обещано, но обещание не было исполнено. Г-н Фельдмана соблазнила мысль составить из него и молодого человека, привезенного им с собой, группу. И мы присутствовали при воспроизведении сказания о Грозном царе и посланце Курбского, Шибанове, затем при совместной борьбе обоих молодых людей с какими-то дикими зверями в Индии. Об участии студента в этих представлениях решено было от него скрыть. Но, по окончании опытов, Глеб Иванович, следивший за ними с большим волнением и, видимо, неприязненно относившийся к гипнотизеру, опять-таки не выдержал и открыл студенту истину. Произошло неприятное объяснение…
Как-то летом мы с Успенским отправились прокатиться по Неве на пароходе. Погода была чудесная, и мы порешили пообедать на Крестовском острове и тем же путем вернуться в город. Но, не доезжая до Крестовского, я вдруг почувствовал себя дурно, со мной случился сердечный припадок, и я попросил Глеба Ивановича выйти на ближайшей пристани, где и прилег на землю. Стоя надо мной и с ужасом глядя на мое, вероятно, очень побледневшее и вообще сильно изменившееся лицо, Успенский вдруг сказал: «H. K.! вы умрете!» Это было так неожиданно, что несмотря на мучительную боль, я не мог не улыбнуться. Припадок продолжался несколько минут, и мы на следующем же пароходе доехали до Крестовского, весело пообедали и благополучно вернулись домой. Но, будь на моем месте человек мнительный, ему было бы, надо думать, не весело…
Все три рассказанных случая произошли не помню в точности когда именно, но, во всяком случае, задолго до болезни Глеба Ивановича. Все это проделывал обыкновенный, здоровый, нормальный Успенский. Теоретически он, конечно, не хуже каждого из нас понимал, что по малой мере неудобно так-таки прямо в лицо говорить больному человеку, что он сейчас умрет, или сумасшедшему, что его везут не туда, куда он согласился и хочет ехать, а в больницу для душевнобольных. Если бы он знал, что не выдержит принятой на себя относительно Z роли, он и не поехал бы его провожать.
Но, соглашаясь принять участие в невинном и необходимом обмане несчастного Z, он не предвидел того впечатления, которое произведет эта поездка на него самого. А впечатление было таково: несчастного, больного человека обманывают, обманом везут в печальное, мрачное место, может быть, вечного заключения. И впечатление это было столь сильно, что заглушило все соображения, кроме одного: надо открыть этому человеку глаза, надо сказать ему правду. То же и относительно загипнотизированного студента, которого не только обманули, но над которым, по мнению Успенского, произвели еще оскорбительное издевательство. Но, говоря: надо сказать правду, надо открыть глаза, – я выражаюсь неточно. Слово надо предполагает некоторый деятельный, хотя бы и очень короткий процесс логического рассуждения, окончившийся определенным решением. В действительности же правда в обоих этих эпизодах сказалась сама собой, неожиданно для самого Успенского, как своего рода рефлекс. Это особенно ясно в случае с моим припадком. Глеб Иванович ошибся в оценке моего состояния, но в данную минуту моя близкая смерть была для него несомненной истиной, и эта истина выскочила из него без всякой мысли о том, как подействует она на меня.
Как и всем нам, живущим в сложной сети условностей, Успенскому приходилось, конечно, не раз и не два таить правду про себя или же прямо говорить неправду. Но это всегда его мучило. Я не раз слышал от него и горькие, и гневные сетования по поводу той или другой житейской подробности этого рода. А когда что-нибудь производило на него особенно сильное впечатление, правда рвалась из него с неудержимою силою, помимо всяких сторонних соображений, всяких условностей; он органически не мог удержать ее в себе. Но и это сопровождалось подчас жестокой мукой. Если в рассказанных мною анекдотах он доставил или мог доставить ненужные страдания другим, то и сам в то же время страдал за этого несчастного больного, за этого обманутого студента, за этого якобы умирающего приятеля и, может быть, сильнее, чем они сами. Это делало его человеком не от мира сего, совершенно неприспособленным к практической жизни, и отчасти предопределило его мрачный конец. Но это же его свойство сообщает исключительную ценность его писаниям. Он не то что не хотел написать неправду – это слишком мало, – он не мог органически, по коренным свойствам своей природы не мог написать ее.
Успенского часто называли и называют тенденциозным писателем, разумея под тенденциозностью сознательную подгонку явлений жизни под требования той или другой доктрины Ничего не может быть нелепее этого эпитета в приложении к Успенскому. Никакая доктрина, никакая теория не могла его связать пред лицом правды. Оттого-то его очерки и являлись так часто неожиданными для разных закоренелых доктринеров. В своей автобиографической записке он говорит о той брани, которою были встречены его первые очерки деревенской жизни. «Тогда меня ругали за то, – пишет он, – что я не люблю народ. Я писал о том, какая он свинья, потому что он действительно творил преподлейшие вещи». На него тогда накинулись прямолинейные доктринеры народничества, не оценившие той боли сердца, с которою он писал, и не понявшие условности его выводов. Они даже как будто с ужасом восклицали: «До чего договорился Глеб Успенский!» Затем он нашел во «власти земли», как он выражается, «источник всей неразумной механики народной жизни». И опять прямолинейные доктринеры, на этот раз марксизма, – правда, несколько позже, когда Успенский был уже болен и не мог постоять за себя, – не оценили его страстной жажды «правды» и не поняли условности его выводов. В его изображении «земледельческих идеалов» они нашли «чудовищные тирады», «непостижимый бред», апофез «крепостничества»…{55}
Внимательный читатель – а Успенского надо читать внимательно – без большого труда выяснит себе из самых его произведений всю грубость этих ошибок. Но мы подойдем к этому выяснению ниже попутно – путем пересмотра писем Успенского к разным лицам, предоставившим их в мое пользование, за что я приношу им искреннюю благодарность.
Прежде всего бросается в глаза, если можно так выразиться, географическая пестрота этой в целом обширной корреспонденции. Письма писаны из Петербурга, Константинополя, Перми, Козлова, Одессы, мызы Лядно, Казани, Софии, Москвы, Ялты, Рязани, Чудова, Кисловодска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Калуги, Парижа, Ростова, Липецка, на «самолетском»{56} пароходе «Сильфида». И только случайно имеющиеся у меня письма ограничиваются этими местами: могли быть еще из Самары и Лондона, из Томска и Белграда. (Я не нашел в своем собственном собрании несколько писем, содержание и даже некоторые характерные выражения которых хорошо помню.) Надо заметить, что многие письма не помечены ни местами, ни временем отправления, но о месте можно узнать из содержания письма, а о времени часто приходится только догадываться по разным сторонним соображениям. Понятно, что при таких условиях нелегко ориентироваться в корреспонденции. Затруднение это было бы еще значительнее, если бы я думал писать биографию Успенского. Но я не берусь за эту задачу и даже, по обстоятельствам, и из писем-то не рассчитываю извлечь все для такой биографии важное.
Уже из простого перечисления мест, откуда писались письма Успенского, видно, что ему почему-то не сиделось на месте. И эта непоседливость, это вечное стремление куда-то все в новые и новые места в высокой степени интересна.
Он писал мне из Парижа: «Господи, что за ахинея идет в моей жизни, что за чепуха! Я пять лет стремился поездить до Дону и пробраться в Соловецкий, а мне надо сидеть в Париже! Нечего сказать, по моим вкусам устроилось все!» Письмо, из которого я беру эти строки, относится еще к середине 70-х годов, а чем дальше, тем сильнее тянуло Успенского с места на место. Но почему «надо» жить в Париже, когда хочется поездить по Дону и побывать в Соловецком?
В. М. Соболевскому он писал откуда-то из-под Одессы: «Как бы хорошо было тут около Одессы – славно в этих местах пожить месяц. Сколько ужасно интересного: меннониты, колонисты, немцы, штундисты{57}, казаки! Все это до чрезвычайности ново, любопытно. Я чуть-чуть видел и говорил, а поверите ли, не расстался бы с здешними местами: так много в каждом уголке своего – веры, порядков, взглядов, общественных отношений, типов и т. д. Но надо ехать в Ростов, потом во Владикавказ и там утвердиться на 1 месяц, а затем домой… Я не печалюсь, хорошо себя чувствую, покойно, и много для меня чрезвычайно нового. Ах, сколько нового на Руси! Не тужите, не скучайте, не думайте о себе печально – интересней думать о том, как живут люди. Я всегда исцеляюсь этим».
Опять надо ехать в Ростов, когда хочется пожить около Одессы. Почему надо?
Вот две его записки ко мне: «Можете представить – приехал в Петербург в 10 часов ночи, переночевал, а на другой день в 2 часа уехал опять домой, никого и ничего не видя! Вот в каком я убийственном душевном состоянии. Не знаю, что делать, ей-богу». (Без даты). «Был на несколько часов в Петербурге, и там меня осенила такая ужасная тоска вдруг, как обухом пришибла, что я не решился зайти к вам, просто боялся омрачить вас, и тотчас опять уехал в Чудово за работу. Страшновато что-то мне по временам». (Помечено 31-м августа 1888 г.)