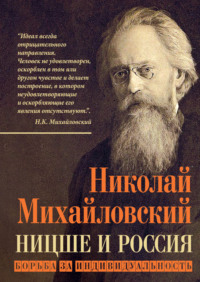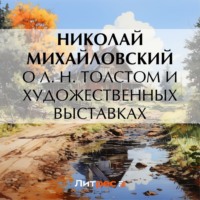полная версия
полная версияГ. И. Успенский как писатель и человек
Доведя скопление комических подробностей до того момента, когда из них сама собой сложилась высокая драма, автор спускает читателя с этой трагической высоты по той же лестнице, по которой ввел его туда. Супруги Ивановы вполне счастливы тем, что ломались не даром. Оно и понятно. Дело не только в том, что беда миновала. Пиро– и гидротехник должен питать, кроме того, острое, нежное чувство к героической Маше, а сама она должна чувствовать некоторую вполне законную гордость. Счастье так велико, так полно и сложно, что супруги уж не гонятся за тычком. Какая-то пьяная скотина оборвала шуточную беседу о турецких пленных ударом „вот в эту самую кость“; супруги – ничего, только прытче домой побежали. И читатель после того напряжения скорбного чувства, которое он сейчас только испытал, готов разделить это благодушное презрение супругов Ивановых: он тоже не гонится за тычком и не чувствует ни гнева, ни негодования на пьяную скотину, хотя она занимает свое очень определенное место среди „жестоких нравов нашего города“. Не только общепринятый кодекс приличий, но и непосредственное нравственное чувство подсказывает, что лежачего не бьют и пленных не обижают. А пьяная скотина говорит: „Коли вы наши пленные, то вот вам в эту самую кость!“ Мерзость великая, но в данную минуту она до такой степени тонет в счастливом возбуждении супругов Ивановых, что сами они ее почти не замечают, а вы опять готовы улыбнуться, отнюдь, однако, не забывая, как не забывает и Капитон Иванов, что это – „свинство, необразованность“.
Такова еще одна особенность Успенского. Он рассказывает подчас возмутительные, ужасающие вещи, но почти никогда не возбуждает в читателе гнева или негодования. Грустное раздумье – вот наиболее обыкновенный осадок, остающийся на душе читателя сочинений Успенского. Достигается этот результат разными путями, но он почти всегда налицо. И грусть эта опять-таки не беспредметная, а, напротив, с совершенно определенным характером. Иной читатель, может быть, не совсем ясно сознает, отчего это ему показали настоящий фейерверк комических черт и черточек, а ему в конце фейерверка стало грустно; рассказали ему ужасный случай возмутительного насилия, но он не гневается, а опять-таки грустит.
Причины этого выяснятся, я надеюсь, ниже сами собой. А теперь я прошу читателя взять какой-нибудь рассказ Успенского и прочитать его так, как мы вместе только что прочитали рассказ „Нужда песенки поет“, то есть наблюдая за собой, за сменой ощущений и впечатлений, переживаемых при чтении. Почти безразлично, что именно выбрать для этого опыта, но я бы особенно рекомендовал, например, „Неизлечимого“, или „Захотел быть умней отца“, или „Дохнуть некогда“, или „Обстановочку“. Эффект будет, я уверен, один и тот же: сначала улыбка, другая, потом смех, иногда почти неудержимый, потом, тотчас вслед за вящим скоплением комических подробностей, более или менее горькое чувство, разрешающееся в конце концов грустным раздумьем. По-видимому, этот результат достигается чисто формальным приемом даровитого художника. Но, принимая в соображение постоянную повторяемость этого приема, принимая в соображение почти неотделимость у Успенского формы и содержания, мы должны предположить, что эта формальная черта имеет свое соответствие в самом миросозерцании автора, во всем его духовном складе. Забегая вперед, укажу другой случай такого соответствия. Аскетическое отношение Успенского к пейзажу, к физиономиям действующих лиц и т. п. есть дело формы, но она вполне соответствует некоторым аскетическим чертам в самом содержании его писаний. Облекаясь в „черную схиму“ как художник, он и как публицист и мыслитель нередко зовет нас вроде как в пустыню. Так и тут. На дне каждого рассказа или очерка Успенского лежит глубокая драма. Из этого, в связи с некоторыми дурно понятыми обобщениями его (об них потом), иные считают себя вправе вывести заключение об его пессимизме. Ничего не может быть ошибочнее. Успенский не прячет ни от себя, ни от людей зла, которое видит на каждом шагу. Но пессимизм, как мрачная философия отчаяния, как уверенность в окончательном торжестве зла, ему совершенно чужд уже просто в силу стихийных свойств его таланта, складывающего драму из комических черт. Для безысходно мрачного взгляда на жизнь слишком велик запас смеха, которым он владеет. То особенное сочетание трагического и комического, которое ему свойственно, дает ему как бы две точки опоры в пространстве и одинаково гарантирует его и против плоского оптимизма, и против ноющего пессимизма. Спрашивается, не есть ли эта счастливая способность видеть вещи одновременно с двух сторон, трагической и комической, эта стихийная гарантия против односторонней роскоши комизма и трагизма – не есть ли она драгоценнейший задаток именно внутренней гармонии, равновесия писателя? Фактический отрицательный ответ, к сожалению, слишком очевиден. Но этим отрицательным ответом нельзя удовлетвориться. Пусть печальные внешние условия помешали гармоническому развитию писателя, пусть этому способствовали некоторые природные его свойства, – сложная штука душа человеческая, и разные, прямо враждебные друг другу течения в ней сталкиваются. Но человек, так счастливо поставленный относительно комического и трагического элементов жизни, должен по крайней мере дорожить гармонией и равновесием, жадно и страстно искать их кругом себя, оскорбляться отсутствием их, радоваться их присутствию. Эта лихорадочная работа будет, может быть, тем интенсивнее, когда в самом-то писателе есть богатые задатки уравновешенности, но при этом он по собственному мучительному опыту знает, как тяжело отсутствие стройного порядка в душе. Можно думать, что такой счастливый и вместе с тем несчастный писатель именно сюда направит все свои силы, именно здесь будет искать и своего идеала, и своей мерки добра и зла. Так оно и есть у Успенского.
Старинное деление (Сен-Симона) исторических эпох на органические и критические{20}может и теперь быть защищаемо. Несомненно, что есть эпохи, в которые все общественные отношения и принципы находятся в органической связи между собой и разные столкновения между людьми и группами людей, хотя бы и очень бурные, не выходят за известные, более или менее строго определенные рамки, общие для всех их. Худы или хороши эти рамки, широки или узки, но живется в них людям сравнительно покойно. Разумею покой душевный, потому что за жизнь, за кусок хлеба людям всегда приходится беспокоиться. И в органические эпохи люди могут подвергаться величайшим насилиям и оскорблениям или подвергать им своих так называемых ближних, но при этом не шевелится совесть насильников и оскорбителей, не возмущается честь насилуемых и оскорбляемых. Общие принципы эпохи допускают, мало того – освещают такие действия. Припомните для иллюстрации ну хоть, например, „Двух помещиков“ Тургенева (в „Записках охотника“). Там один помещик, человек очень добрый и любезный, велит высечь на конюшне буфетчика Васю, который „с такими большими бакенбардами ходит“, и потом, попивая чай на балконе в прекрасный летний вечер, прислушивается к звукам ударов и с улыбкой приговаривает в такт: „Чюки-чюки-чук, чюки-чюки-чук“. А Вася с большими бакенбардами, в свою очередь после экзекуции, с не меньшим спокойствием гуляет по деревне и грызет подсолнухи. На вопрос о порке он отвечает, что этот барин даром не накажет и что такого барина и днем с огнем не сыщешь. Совершилось безобразное дело, но обе стороны по совести и чести признают его законным. Понятно, что в органические эпохи совершаются не только одни безобразия. Напротив, здесь возможны и высокие подвиги самоотвержения и любви. Мало того, вся жизнь иного человека в такие эпохи может быть сплошным подвигом терпения и преданности, и никто даже этого не заметит, если подвиг не выходит из рамок, определяемых господствующими принципами. Все существующие отношения, в своих общих и коренных частях, находятся в полной гармонии с ходячими нравственными понятиями. Противоречия, существующие в нравственном складе такого общества, могут быть усмотрены со стороны; но для сознания огромного, подавляющего большинства они просто не существуют. Буфетчик Вася с большими бакенбардами подвергается позорному наказанию – уже одно это грамматически правильное предложение заключает в себе, по-видимому, целый ряд непримиримых противоречий: как это можно – пороть человека „с большими бакенбардами?“ Как можно пороть человека и в то же время называть его ласкательным и уменьшительным „Вася“? Как можно называть Васей, а то и Васькой, человека с большими бакенбардами, который вам не брат, не друг, не сын? Но этого мало. Если, например, этого обесчещенного позорным наказанием Васю сдадут в солдаты, то потребуют от него военных подвигов и смерти за честь родины, и он действительно предъявит эти подвиги и примет смерть с тем спокойным героизмом, который характеризует русского солдата. Но ни Вася с большими бакенбардами, ни его барин, и никто другой не замечают этих противоречий и живут с спокойной совестью и невозмущенной честью.
Может быть, я и ошибаюсь, конечно, но мне кажется, что если бы Успенский получил свое литературное воспитание и начал работать в подобную органическую эпоху, из него вышел бы писатель более спокойный и упорядоченный, и мы имели бы ряд его романов, повестей и проч., и стоял бы он не в стороне от большой дороги беллетристики, а там же, где стоят Тургенев, Толстой, вообще крупные таланты предшествовавшего поколения. Это не значит, конечно, что он примирился бы с тем равновесием, удовлетворился бы тою гармонией фактических отношений и нравственных понятий, какая предъявляется каждой органической эпохой. Напротив, он занялся бы, может быть, и даже по всей вероятности, раскрытием противоречий, открывающихся в той гармонии для взгляда со стороны. Но именно посторонним-то зрителем ему не довелось быть, и выступать на литературное поприще ему пришлось не в органическую эпоху, а в критическую.
Вот как говорит Успенский о трудных временах 60-х – 70-х годов: „Освобождение крестьян, то есть одно только понятие об освобождении, сразу внесло невозможный для расслабленных семей, но великий идеал жизни – жизни, основанной на честном труде, на признании в мужике брата; вся прошлая жизнь была именно полным, беспощаднейшим и бесцеремоннейшим нарушением этого смысла – и вот настала гибель… И в эту минуту явились люди, воспитанные в самой густоте неуважения чужой личности, в самых затхлых, разлагающих понятиях, – например, что не думать легче и лучше, чем думать, что не работать лучше, чем работать, что работать должны мужики, а я вырасту большой, женюсь на богатой, поеду за границу и т. д. Этому-то поколению, воспитанному в образцовой школе бессовестности, пришлось лицом к лицу стоять с суровой русской действительностью… Началась с этой минуты на Руси драма; понеслись проклятия, пошли самоубийства, отравы… Послышались и благословения“ („На старом пепелище“).
В другом месте, в очерке „Хочешь-не-хочешь“, Успенский развивает ту же мысль несколько пространнее, причем выражает уверенность, что „среди такой массы глубоких сердечных страданий, несомненно, должен родиться могучий талант“, который все это изобразит.
„Большого художника, с большим, в два обхвата, сердцем ожидает полчище народу, заболевшего новою, светлою мыслью, народа немощного, изувеченного и двигающегося волей-неволей по новой дороге, и несомненно к свету. Сколько тут фигур, прямо легших пластом, отказавшихся идти вперед; сколько тут умирающих и жалобно воющих на каждом шагу; сколько бодрых, смелых, настоящих, сколько злых, оскалившихся от злости зубов! И все это рвущееся с пути, разбешенное, немощное – все это рвется с дороги только потому, что это новая дорога, новая мысль, и злится только потому, что не может и не хочет помириться с новой мыслью. Словом, все это скопище терзается или радуется и смело идет вперед потому только, что надо всем тяготеет одна и та же болезнь сердца, боль вторгнувшейся в это сердце правды, убивающая и мучащая одних и наполняющая душу других несокрушимой силой“.
Этими словами хорошо характеризуется то, что Успенский считает центральным пунктом русской жизни в 60-е – 70-е годы: „болезнь сердца“, „болезнь мысли“, „болезнь совести“. Но они же хорошо характеризуют и самого писателя – направление его мысли и страстность его отношения к делу. Болезнь сердца, болезнь мысли, болезнь совести – это нарушенное равновесие духа. Успенский не скорбит об этом нарушении, потому что верит в величие и правоту новой мысли, которая его произвела. Но он скорбит о тех мятущихся душах, которые являются жертвами рокового столкновения старого с новым, скорбит именно об том, что они так много и болезненно мятутся, а мятутся они так потому, что душевное равновесие в них нарушено. Надо бы им подняться на высоту новой мысли всем существом своим и там, на этой высоте, достигнуть нового равновесия. Но они этого не могут. Что-то тянет их книзу, как многопудовая гиря. Le mort saisit le vif[3] – наследие доброго старого времени не уступает своего места новой мысли. Летописцем или иллюстратором этой мучительной неуравновешенности стал Успенский. Однако не сразу. В его ранних произведениях еще отсутствует специальная „болезнь сердца“, совести. Но уже там намечена та почва, на которой она выросла. Оглядываясь теперь назад, мы без труда увидим, что обособляло Глеба Успенского среди той группы молодых талантливых беллетристов, которая разом объявилась в шестидесятых годах. Первоначально мы видим только общую всем им склонность к изображению людей и нравов низших общественных слоев, и Глеб Успенский выделяется лишь своею манерою слагать драму из комических подробностей – манерою, только изредка и слабо проявлявшеюся у Николая Успенского и совершенно отсутствовавшею у Левитова, Слепцова, Решетникова. Но уже в „Разоренье“ Успенский, сохраняя типические черты всей группы, специализирует и содержание своих писаний. С этих пор его занимает почти исключительно столкновение „новой мысли“ с дореформенным порядком. Для примера остановимся на одной фигуре из этого периода его литературной деятельности.
Чиновник Павел Иванович Печкин (в „Наблюдениях Михаила Ивановича“) ходил себе на службу, строчил разные бумаги, брал взятки, вытягивался перед советником и проделывал все это „с тем же спокойствием, с каким люди убеждаются, что солнце светит, что под ногами земля, а над головой небо; об этом даже и не думают. Павел Иванович делал все это исправно и жил поэтому весьма счастливо до тех пор, пока время не пошатнуло этого миросозерцания. С некоторых пор стало оказываться, что взятка – вещь гнусная и что Павел Иванович – подлец, тогда как он считал себя честным человеком. „Разве я что украл?“ – говорил он в подтверждение этого. Начальство, которое прежде только распекало, которое прежде отличалось опытностью и дряхлостью, стало заменяться какими-то щелкоперами, которые носили пестрые брюки, курили в присутствии сигары, не брили бород, выгоняли вон без суда и следствия, не желали видеть доказательство честности в беспорочной пряжке{21}. Все это и множество других либеральных реформ, похожих на снисхождение к пестрым брюкам, вломилось в умственный мир Павла Ивановича и произвело в нем потрясение… Как человек набожный, он возлагал большую надежду на помощь божию, надеясь, что все эти брюки, честности и бороды „прейдут“, ибо посылаются в наказание народам за беззакония и блудную жизнь, но в сущности это были только самые легкие удары начинавшегося землетрясения. За бородами пришли времена, когда вдруг мужики перестали давать взятки… Затем пошли новые суды, неповиновение в народе (а в том числе и в кухарке), и все это вместе внесло в душу Павла Ивановича множество самых непримиримых вещей“.
В результате получился нелепейший брюзга, у которого неустанно льется с языка „сердитая чушь“. Очень смешная фигура, как помнит или как увидит читатель в подлиннике, но только смешная. Драма, по обыкновению, есть и здесь, но она располагается около Павла Ивановича, который своей „сердитой чушью“ делает жизнь окружающих непереносною. Сам Павел Иванович только смешон; автор не удостоивает вниманием ту все-таки же драму, которая внутри самого этого нелепого брюзги происходит. Он просто отмечает ее, не уделяя ей ни малейшего сострадания: туда, дескать, этому чучеле и дорога. Молодой автор, очевидно, до известной степени разделял еще не остывшие во время писания „Разоренья“ веселые ожидания и розовые надежды русского общества. Оглядываясь теперь на это странное время, можно удивляться той необузданности надежд, тому розовому доверию к будущему, которым мы были тогда переполнены. Казалось, историческая дорога лежала перед нами такою ровною, гладкою скатертью, что только посвистывай да вожжами потрагивай. В ненавистном прошлом не было, кажется, уголка, не оплеванного с полнейшею и бесповоротною искренностью. Все весельем, надеждой дышало. И каждый встречный на улице подходил к вам и говорил:
Я пришел к тебе с приветом,Рассказать, что солнце встало,Что оно горячим светомПо листам затрепетало.{22}Как видно из всего „Разоренья“ и в особенности из главной его фигуры – Михаила Ивановича, Успенский отнюдь не был охвачен таким оптимизмом; но все-таки по крайней мере путь к светлому будущему казался настолько ясным, что решительно не стоило придавать серьезное значение каким-нибудь ничтожным мукам ничтожного Печкина, не сумевшего прийти в равновесие с „новой мыслью“. Черт с ним!
Позже, в начале семидесятых годов, Успенскому пришлось иначе отнестись к жертвам нарушенного равновесия: пришлось написать вышеприведенные строки о „болезни сердца“ Оказалось, что душевное равновесие не так-то легко достигается в житейском море, взбаламученном новою мыслью, и что беспомощно мятутся не одни дряни вроде Павла Ивановича Печкина. В этом удостоверяет вся группа очерков и рассказов, соединенных под общим заглавием „Новые времена, новые заботы“.
Мы все еще в провинциальном городе, где имеют место и „Нравы Растеряевой улицы“, и „Разоренье“, и другие мелкие рассказы первого периода, а не в деревне, куда нас поведет Успенский потом. Но в этом городе нашего автора занимают уж не вообще нравы и люди, а специальная черта болезни совести. Его поражает прежде всего общая физиономия современного губернского города – „нечто неуклюжее, разношерстное, какая-то куча, свалка явлений, не имеющих друг с другом никакой связи и, несмотря на это, делающих бесплодные усилия ужиться вместе“. Прежде „гармония была во всем полная. Тряпье, дикость, невежество, хрюканье и проч. – все это было пригнано и прилажено все к тому же невежеству, тряпью, хрюканью и дикости и, стало быть, не могло не только поражать ваш глаз, но даже ни на волос не обижало его. Теперь не то. Гармония подлинного тряпья нарушена пришествием решительно несовместных с ним явлений. Из превосходного вагона железной дороги пассажир вылезает прямо в лужу грязи, грязи непроходимой, из которой никто не придет вас вынуть, потому что машина прошла в таком месте, где отроду не было ни народу, ни дорог“, и т. д.
Я не стану выписывать дальнейшие подробности и обращаю внимание читателя только на то, что глаз художника „обижен“ зрелищем нарушенной гармонии; ему „досадна“ эта „путаница“, хотя он знает, что гармония невежества, тряпья и дикости слагается все-таки из дикости, тряпья и невежества, а следовательно, вовсе не привлекательна и не желательна. Это нечаянно сорвавшееся с пера слово „глаз обижен“ очень замечательно. Успенский оскорблен отсутствием гармонии в физиономии губернского города. Тем паче оскорблен он внутреннею, душевною жизнью обитателей этого города, в которой он главною чертою считает „больную совесть“, нарушенное новою мыслью равновесие.
Вот, например, порожденный этой жизнью мещанин Б-в (в „Хочешь-не-хочешь“). Он несет „чушь“ в своем роде не хуже Павла Ивановича Печкина, но уже не „сердитую“ и пустопорожнюю, а покаянную и содержательную. Он вспоминает о блистательности своего положения, когда у него было „панталонов одних летних шесть пар от Корпуса“ и когда ему предлагали место на Невском у Пеструхина с жалованием в семьдесят пять рублей. Но ему „тьфу!“ на все это. „Места, панталоны… Господи, очисти живота от всего от этого“. Его тянет куда-то в высоту, об которой, однако, он ничего путного сказать не может, и решает умереть, и действительно застреливается. Несмотря на смешные подробности монолога Б-ва, вы видите здесь настоящую драму, состоящую в том, что какие-то неизвестные обстоятельства ввели в слабую голову Б-ва массу новых мыслей, не уживающихся с прежним ее содержимым. Он рад бы рекой разлиться, весь мир залить своим стоном, и ничего из этих неимоверных усилий не выходит: он все вертится около каких-то шести пар летних панталонов от Корпуса, которые сам глубоко презирает. В его мозгу копошится нечто бесконечно высшее, чем все эти летние панталоны и „места“, но это нечто бьется, как птица в клетке, ища и не находя выхода, ища и не находя слов для своего выражения. Истинно „тьфу!“ все эти панталоны и места. Никто их не презирает в такой степени, как этот самый мещанин Б-в. А между тем они назойливо лезут в голову, нет возможности согнать их с языка, нет возможности добраться сквозь них до того святилища души, где, точно в сказочном ларце за семью печатями, лежит таинственное зерно какой-то высокой мысли, изгнавшей Б – ва из рая душевного равновесия.
Вот Верочка („На старом пепелище“). Она знает „новую мысль“ в ее словесных выражениях, знает слова „труд“, „равноправность“, „независимость“, даже ценит их, но соответственные мысли не могут пробить толстую кору, наслоенную на ее сердце наследием прошлого. А когда наконец эти мысли пробились до сердца, Верочка не выдержала и отравилась.
Вот дьякон („Неизлечимый“), спокойно живший с своим „свиным элементом“ в душе, пока новая мысль не разрушила этого гармонического существования. Дьякон, вкусив от плода древа познания добра и зла, сознал в себе „свиной элемент“, но ничего с ним поделать не может и мучительно раздумывает: „Возможно ли каким-либо манером фундаментально излечить и душу, и тело? Тело, например, восстановлять медицинскими специями, а душу одновременно чтением?“ И проч., и проч.
Это уж не Павлы Ивановичи Печкины, на которых можно было только плюнуть. Этих людей автор уже дарит своим участием и состраданием, признает их мучениками, а не мучителями, видит драму в них самих, а не около них. Но неужели же так-таки нет просвета? Неужели „новая мысль“ бессильна создать новую высшую гармонию на место той „свиной“, которую она разрушила, а ветхий человек решительно не способен облечься в нового и расстаться с своим „свиным элементом“? Как бы оно там ни было в действительности, но Успенский слишком „обижен“ зрелищем дисгармонии, слишком страдает от него, чтобы не искать хоть какого-нибудь успокоения оскорбленному глазу. При всей своей беспорядочности и неуравновешенности он слишком богат задатками гармонии, чтобы отказываться от мечты найти ее, гармонию, хоть где-нибудь. И он ищет, ищет, доколе не омрачается его разум, а отчасти и с омраченным уже разумом. И я не знаю ничего трогательнее той лихорадочной страстности, тех порывистых усилий мысли, с которыми он совершает эти поиски. Он с грустью раздумывает о судьбе Б-ва, Верочки, дьякона и прочих, заболевших „сердцем“, „совестью“; но, как бы ни были мрачны и безотрадны изображаемые им картины, он никого не ведет к отчаянию, к „складыванию ненужных рук на пустой груди“. Должна где-нибудь быть эта так желанная гармония – или в настоящей действительности, или в будущем, которое можно, однако, теперь же определить. Но на беду наш автор очень требователен. В рассказе „Прогулка“ фигурирует очень либеральный и образованный акцизный чиновник. Он следит за литературой, говорит, что „Один в поле не воин“ Шпильгагена{23} – „превосходная штука“, одушевленно ведет благороднейший разговор о необходимости народного образования, близко принимает к сердцу интересы европейской политики, неизменно вежлив с низшими, строго исполняет свои обязанности. Словом, это продукт уже, конечно, не дореформенной эпохи. Но вот этот гуманный и вполне современный человек отправляется производить дознание о беспатентной продаже водки. Дорогой он прихватывает свидетеля солдата и сговаривается с ним, как им накрыть виновника. Дознание произведено, протокол составлен, и все это устроилось так, что присутствующий при этом посторонний молодой человек размышляет: „Как назвать, как определить эту гуманность, образованность, которая повсюду вносит с собой уныние и грусть?.. Вот с измученной совестью сидит на крыльце солдат… Вот вздыхает целая семья, видя перед собою голод… Бабы перестали петь, ушли“. – „Да что же это такое?“ – спрашивает он чиновника. „Порядок!“ – категорически ответил чиновник и продолжал дорогу молча, срывая васильки и собирая из них букет для жены». Не этот «порядок», конечно, может послужить просветом для мечты сердца, жаждущего гармонии. Это даже и не «порядок», несмотря на то, а отчасти, может быть, именно потому, что чиновник соблюдает при составлении протокола все формы вежливости, а соблазнив солдата на предательство, рвет васильки. Или вот рассказ под названием: «Умерла за направление», в котором благодаря огромности и сложности общественного механизма человек, возымевший очень крупные надежды и планы, постепенно их суживает и приходит наконец даже к совершенно неожиданному результату. Рассказчика спрашивают, к чему он это рассказал. Он отвечает: «Как к чему? Да просто так сказал… Потому сказал, что поглядишь, поглядишь и не знаешь – что такое творится на белом свете! Вот почему. Тоска».