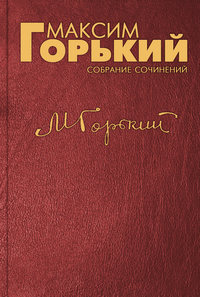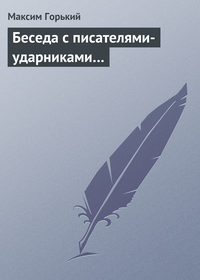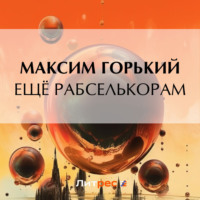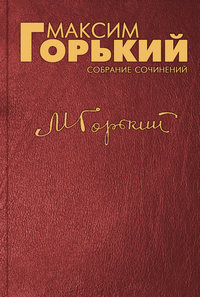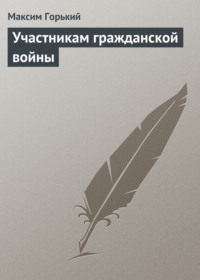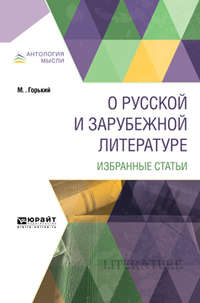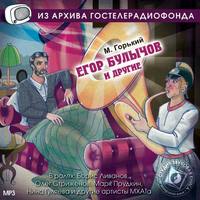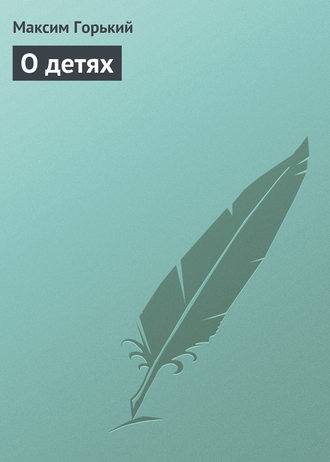 полная версия
полная версияО детях
По знаменитым романам Диккенса нам известно, как воспитывались английские школьники. Диккенс умер в 1870 году. С той поры прошло шестьдесят лет. Но вот известный сотрудник либеральных «Русских ведомостей», а ныне яростный враг наш, Шкловский-Дионео сообщил в парижской газете эмигрантов следующее:
«В Бромлее – маленьком сонном городке, в двадцати пяти минутах езды по железной дороге от станции «Виктория» в Лондоне в полицейском суде разбирается дело, поднятое обществом покровительства детям. Ответчиком является содержательница «высшей школы для мальчиков и девочек» госпожа Гильда Фирн. В школе этой одиннадцать пансионеров в возрасте от восьми до пяти лет были больны серьёзной накожной болезнью на голове[7]. Родители детей, отданных в школу-пансион госпожи Фирн, – провинциальные адвокаты, доктора и клерки. Это люди с маленькими доходами, старающиеся всеми силами сохранить «респектабельность». Один из параграфов кодекса «респектабельности» требует, чтобы дети учились в закрытой школе. В результате явилась госпожа Фирн. Она основала закрытую школу в помещении, которое люди с маленькими доходами могут показать знакомым с гордостью: «Вот где учатся наши дети». Школа помещается в большом, красивом доме, окружённом парком. Дом принадлежал прежде сквайру, которому теперь помещение это не по карману. Но директрисе есть на чём выгадать. «Выгадывание» происходит за счёт питания и учения детей. В 1930 году вполне воскресают обычаи, описанные Диккенсом. Дети в «высшей» школе госпожи Фирн плохо одеты и вечно полуголодны, зато отлично одета и очень сыта директриса. В великолепном помещении школы нет врача, потому что врачу больше года не платят и он не посещает школы. Тяжело заболевшие дети лежат без всякой помощи. «Директрисе» некогда, – она отправляется на скачки. И больные маленькие дети, в возрасте от восьми до пяти лет, остаются одни, неумытые, полуголодные. Почему же однако в закрытой школе живут такие маленькие дети, когда им ещё надо быть дома? А потому, что дети «мешают» дома матерям, желающим «жить». Скромные жёны провинциальных врачей и адвокатов так же желают танцевать, как и богатые женщины в Лондоне. Дело госпожи Фирн свидетельствует не только о том, что диккенсовская «академия Сквирса» ещё жива, но и о том, что существует ещё много родителей, которые из-за «респектабельности» или из-за других причин отдают детей в эти «академии».
Очевидно, мелкое мещанство окончательно решило жить по «принципу»: «хоть день, да наш». Это – принцип людей, разочарованных в возможности длительного и прочного существования. Семья для них уже перестала быть «основой государства».
Тот же Дионео, но уже в замечательно пошлой газете «Сегодня», напечатал фельетон о диком обычае английских школ, – обычае, называемом «фэччинч».
«Что такое – «фэччинч»? Каждый мальчик, поступающий в английскую закрытую среднюю школу, на известный срок попадает в распоряжение «монитора», то есть мальчика, занимающего первое место в классе не по успехам в науках. «Фэч» исполняет поручения «монитора», приносит ему чай и бегает у него на посылках. И, если поручение «монитора» не исполнено быстро и точно, «фэча» бьют. Через год новичок сам становится «стариком» в школе, и тогда он, в свою очередь, муштрует новичка.
Телесные наказания в более смягчённом виде удержались почти во всех английских школах, как средних, так и низших. Изредка это кончается трагедией, и тогда происшествия подобного рода имеют отражение в суде. Родители привлекают к суду учителя, выпоровшего их мальчика. Жалуются родители обыкновенно не вообще на систему телесного наказания, а только на чрезмерную суровость наказания. И, хотя я могу назвать несколько судебных процессов о «порке» в школах, я не припоминаю случая, когда судья выступил бы против системы порки в школах. Обыкновенно приговор кончается против родителей, хотя иногда суд признаёт, что наказание было несколько «сурово».
Система «фэччинча» тоже составляет старинный английский обычай, который ревниво охраняется в школах. Тогда возникает в печати шум. Назначается следственная комиссия, всесторонне исследующая систему «фэччинча», причём выясняется следующее: среди свидетелей, дающих показания, некоторые абсолютно против «фэччинча». Они приводят поразительные примеры грубого издевательства над новичками, но наряду с этим выступают другие свидетели, показания которых склоняются к тому, что «фэччинч» очень хорошая система, необходимая при образовании характера.
В Нельсоне (в графстве Ланкашир) присяжные и судьи обсуждали самоубийство четырнадцатилетнего мальчика Джеффри Ферхерста, сына пастора. В Англии, как, вероятно, читателям известно, деревенские священники принадлежат обыкновенно к высшему классу. Обыкновенно такой священник – младший сын лорда. Получает он в год 1800–2000 фунтов стерлингов. Джеффри Ферхерст был в пасхальном отпуске дома. В школе он учился не только хорошо, но даже блестяще. И вот наступил канун того дня, когда мальчик должен был уехать из дома в закрытую школу. В этой школе мальчик учился только с сентября 1929 года. Он был весел всё время, когда был дома, распрощался накануне отъезда с матерью и с отцом и ушёл к себе в комнату. Когда мать заглянула в одиннадцать часов вечера к мальчику, она нашла его уже мёртвым. Он повесился.
– Он был самый счастливый мальчик, – показал на суде его отец. – Я могу привести сотню свидетелей, которые подтвердят это. Где только был Джеффри, гремел смех. Всё, что он делал, сопровождалось весельем. Мальчик всегда был в самом жизнерадостном настроении, и меньше всего можно было думать, что он кончит самоубийством.
Свидетель объяснил, что смерть мальчика была вызвана только нежеланием возвращаться в школу и отвращением его к системе «фэччинча».
Каждый новичок, по этой системе, обязан был выполнить двадцать приказаний «монитора» (то есть старшего ученика) в неделю. Приказания отдавались в категорической форме. «Фэччинч» заключалось в прислуживании «монитору», «Фэч», то есть новичок, обязан был послушно бежать по зову «монитора» и исполнять разные поручения его. Если «фэч» недостаточно быстро исполнял, что ему приказал «монитор», то его били. «Фэч» обязан был, между прочим, приносить «монитору» чай, поджаривать для него тартинки и прочее. Покойный Джеффри не мог исполнять достаточно проворно приказы «монитора», так как учился очень серьёзно и усиленно готовился к предстоящим экзаменам в июле. Некоторые «мониторы» были очень грубы с новичками. Таков был мальчик, «командовавший» над Джеффри.
– Таким образом, вы уверены, что Джеффри покончил с собой единственно потому, что его страшила роль «фэча» в школе? – спросил судья у отца покойного.
– Да, таково моё глубокое убеждение, – ответил свидетель. – Мальчик был вполне счастлив дома, очень хорошо учился, и у него никаких других причин покончить с собой, кроме чрезмерной грубости «монитора», не было.
Свидетелями выступали также директор седбергской школы и некоторые учителя.
Директор защищал систему «фэччинча». Она, по словам его, не только не заключает в себе ничего ужасного, но, напротив, очень «любима» всеми в школах. «Феччинч» прямо необходим в системе английского воспитания, – объяснил директор. – По нашему мнению, – продолжал он, – обучить такого мальчика дисциплине совсем не плохо». После показания директора осталось невыясненным следующее: почему же Джеффри повесился, если система «фэччинча» так хороша? Присяжные, по-видимому, не вполне согласились с мнением директора. Они вынесли приговор о причинах смерти Джеффри. И в этом вердикте говорится, что смерть мальчика вызвана грубой системой «феччинча». Самоубийство Джеффри вызвало передовые статьи в английских газетах, но опять число этих статей против системы «фэччинча» неизмеримо меньше, чем число в защиту системы.»
Вот какие факты печатаются в газетах эмигрантов, поклонников буржуазной культуры, яростных врагов культуры социалистической, – в газетах людей, которые изо дня в день цинически клевещут на свою родину, где для них нет и не будет места. Они же печатают в газетах своих сообщения о немецких детях, такие, например:
«Ученикам одной из берлинских начальных школ был предложен в качестве темы для классной работы вопрос:
«Как вы представляете себе рай?»
Отказаться от писания «работы» нельзя. Волей-неволей бедные школьники, дети лет десяти – одиннадцати, стали ломать себе голову над тем, какие блаженства ожидают их в будущей жизни.
Вот что некоторые из них написали.
«Рай – это место, где всегда тишина. Птицы поют на ветках, и светит яркое солнце. Тот, кто туда попадает, никогда больше этого места не покинет. Бог поочерёдно обходит райских жителей и со всеми разговаривает».
«В раю можно играть, петь, танцевать, бегать сколько хочется. Самые вкусные вещи лежат грудами на столах. Больше я ничего не могу сочинить, потому что это самое лучшее. Наверное, так будет в раю».
«Рай находится на небе, за облаками. Люди ещё не знают, как туда долететь. Но я думаю, что те аэропланы, которые поднялись и потом исчезли, – может быть, улетели в рай. Они не хотели этого говорить, чтобы им другие не помешали».
Наконец, самый маленький ученик в классе ответил лаконически и просто:
«Рай – это там, где всё есть».
Ответы так красноречивы, что не нуждаются в объяснении их печального смысла.
В дополнение к ним можно привести из «Берлинского биржевого курьера» ещё несколько изречений детей.
«Маленького Петера, усердно собирающего пфенниги в копилку, спрашивают, что он собирается приобрести на собранные деньги.
Петер отвечает: «Только продовольствие, мне ужасно хочется долго жить!»
На уроке закона божия учительница наставляет детей, что не следует ничего бояться. Если страх нами овладевает, нужно призвать бога. Рассказывая об этом родителям, мальчик прибавляет: «Учительница однако не сказала нам, под каким номером можно его вызвать».
Подписчица этой же газеты сообщает, что она
«посетила со своим маленьким сыном Фрицем диораму, в которой, между прочим, показывался римский цирк, где христиан травили дикими зверями. На вопрос малыша, что это значит, мать пояснила, что было время, когда жестокие люди отдавали христиан на растерзание тиграм и львам. Фриц впился глазами в развернувшуюся перед ним картину и замечает: «Но вот тот бедный тигр, который совсем сзади находится, остался без еды».
Допустим, что это – образцы тяжеловесного немецкого остроумия, а не «факты жизни». Но тот факт, что немецким детям живётся тяжело, всё более часто и солидно утверждается немецкой литературой. Уродующая детей тяжесть жизни в семье – тема десятков книг, напечатанных немцами за последние двенадцать лет. Якоб Вассерман в романе «Семья», вышедшем, кажется, в 26 году, особенно чётко изобразил настроение детей буржуазного общества. В этом романе дочь знаменитого адвоката Фридриха Лаудин говорит отцу, что вся система воспитания и образования совершенно фальшива. Она, девушка шестнадцати лет, не верит учителям, не верит в пользу школы. Ей кажется, что «перед её носом закрыли дверь, через которую она непременно должна пройти». Большинство её сверстников испытывает такое же недовольство жизнью. «Они хотят чего-то нового, действительно нового. Они хотят во что бы то ни стало сделать мир счастливее и лучше… Хотят уничтожить всю старую ложь, все устаревшие законы… Ей часто представляется, что она со своими товарищами-единомышленниками образует какой-то вражеский лагерь в мире взрослых…» Она, как многие, «ходит в доме отца и матери, точно солдат чужой страны».
Разумеется, всё это не очень определённо, однако это – бунт, и общие условия жизни таковы, что едва ли этот бунт может оказаться безрезультатным. Во всяком случае, он всё более должен расшатывать «семью, основу государства» мещан.
Мне кажется, что заметки эти вполне уместно заключить следующим сообщением из Нью-Йорка от 23 июля:
«Несколько членов Конгресса, принадлежащих к комиссии, которой поручено обследовать деятельность коммунистов в Америке, посетили детскую колонию, содержащуюся на средства коммунистов.
При появлении членов Конгресса дети стали петь «Интернационал», свистать и выкрикивать по адресу пришедших разные оскорбительные словечки.
Затем детский хор, к которому присоединились и взрослые, находящиеся в лагере, запел песню:
«Мы вас ненавидим! Убирайтесь!
Убирайтесь к чёрту и не возвращайтесь обратно!..»
Некоторые из членов комиссии старались обратить всё это в шутку и даже пытались отвечать ораторам, которые обвинили правительство в враждебных намерениях по отношению к СССР.
Посещение окончилось без особых инцидентов, но только потому, что к депутатам подоспели на помощь полицейские.»
На всесоюзном слёте пионеров в Москве некий зритель спросил детей одной из групп Средней Азии:
– Вы – какого народа?
Ему ответили:
– Пионеры.
Это похоже на анекдот, но это – было. И за этим последовало сказанное вполголоса замечание другого зрителя:
– Вот когда действительно началось стачивание национальных предрассудков!
Большой этот вывод сделан был не из маленького слова, а из великолепного зрелища четырёх десятков тысяч детей, собранных со всего Союза Социалистических Советов на стадион Москвы, – зрелища небывалого слёта «новых птиц».
Это поразительное зрелище и заставило ребят из Средней Азии забыть своё племенное имя и ответить новым словом:
«Пионеры!»
Примечания
1
Впервые напечатано в журнале «Наши достижения», 1931, номер 2, февраль. // Включалось в первое и второе издания книги М. Горького «Публицистические статьи». // Печатается по тексту, подготовленному автором для второго издания указанной книги. Текст сверен с рукописью (Архив А. М. Горького).
2
Очевидно – опечатка и надобно читать: 9-ти; 6-ти лет мальчик винтовку не поднимет – прим. М. Г.
3
«Мы живём в «Гиганте» – название сборника рассказов, написанных учениками школ села Елани (Ирбитский округ, «Гигант»). Составил Всев. Лебедев, издание «Крестьянской газеты», М. 1930.
4
Здесь! – прим. ред.
5
Поторапливайся. – прим. ред.
6
са’хару, пожалуйста. – прим. ред.
7
Должно быть, парша. – прим. М. Г.