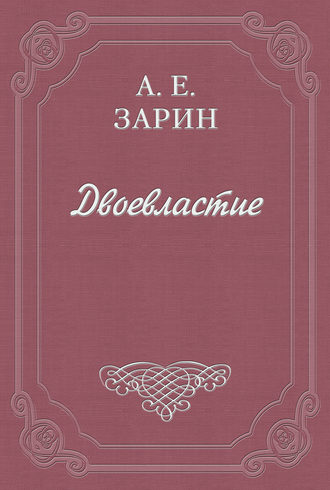 полная версия
полная версияДвоевластие
И вот его сын Михаил венчан на царство, сам он снова на родине, и народ русский смотрит на него с упованием. Не его ли заслугами отличен и возвеличен Михаил – этот нежный, слабый умом юноша, подчиненный власти своей матери? Не на его ли плечи ляжет теперь крест, возложенный на слабую выю сына? И то смиренный он благодарил Господа за милость, посланную ему, и за величие сына, то полный честолюбивых мыслей просил у Господа благословения на трудный подвиг правления.
Наконец Филарет встал, освеженный молитвою, и нежно помог подняться сыну, царское одеяние которого по своей тяжести требовало немалой силы от носившего его.
– Благослови! – припал к его руке Михаил.
– Благословен будь! – ответил отец, налагая на него знамение, и помолчав сказал: – Господь Бог, правя волею народа, наложил на слабые плечи твои великое бремя. Поведай же мне, что делал, что думаешь делать, кого отличил и кого карал за это время!
Сын покорно опустил голову.
– Где государевы дела правишь? – спросил отец.
– Тут, батюшка!
Михаил ввел отца в соседний просторный покой, уставленный табуретами и креслами без спинок, посреди него стоял стол, покрытый сукном, на столе – чернильница с песочницей в виде ковчега, и подле них лежали грудой наваленные белоснежные лебединые перья. Подле чернильницы на цепочке был привешен серебряный свисток, заменявший в то время колокольчик, тут же лежали уховертки и зубочистки, а посреди стола – длинными полосами нарезанная бумага. Исписанные полосы потом склеивались и свертывались в трубку, образуя свиток. Невдалеке, сбоку, лежала грифельная доска с грифелем в серебряной оправе. По стенам покоя стояло еще несколько столов. На одних лежали грубо начерченные географические карты и астрономические таблицы с символическими изображениями созвездий, на других стояли часы, до которых Михаил Федорович был большой любитель.
Филарет строгим взглядом окинул покой, опустился в кресло и положил руки на его налокотники. Царь сел напротив, и некоторое мгновение длилось тяжкое молчание.
– Слышал я, – начал Филарет, – что в великом разорении царство твое.
– В великом! – прошептал царь Михаил.
– Что от врагов теснение великое, казны оскудение, людишкам глад и бедствия всякие.
Царь опустил голову, но потом поднял ее и заговорил:
– Как пришли послы от земли ко мне с матушкой на царство звать меня, мы тотчас отказались. Замирения нет, раздор везде, вражда и ковы {Ковы – злые умыслы, заговоры.}. Со слезами просить стали. Что делать?
Филарет задумчиво покачал головой.
– Млад был, – сказал он, – скудоумен, кроме кельи матери, что видел?
Царь покраснел.
– Оттого и отнекивался, и трепетал венец приять. Но умолила и благословила матушка. – Он перевел дух и, отстегнув запонки у ворота своего кафтана, продолжал: – Как на Москву шли, поляки меня извести хотели. Крестьянин села Домнина Иван Сусанин, спасибо, злодеев с дороги сбил. На Москву пришли – разорение. Двора нет. Все огнем спалено, и народ в плаче и бедствии. Молился я Господу: «Вразуми!»; не было тебя, государь – батюшка, кому ввериться.
Филарет кивнул.
– И пошли бедствия на нас отовсюду. Поначалу Заруцкий с Маринкой смуту чинили. Князя Одоевского послал я. Избили их; Ивашку, нового самозванца, повесили, Маринка в Коломне померла. А тут шведы Псков разбивали. Князя Трубецкого послал я, да его войско рассеяли шведы, тогда же Новгород грабили. Ну, стал я замирения просить. А там Лисовский, лях, как волк, по матушке – Руси рыскал. Воеводу Пожарского его изымать послал я, да увертлив пес этот Лисовский. Разбойники на Волге собрались. Ляхи обижали. А тут и все разом: Сагайдачный с казаками приспел, ляхи с Владиславом; под самую Москву о Покров подошли. Не помоги Пресвятая Богородица, взяли бы Москву и меня полонили бы. Помогла Заступница, и отбились мы; а теперь сделали договор, чтобы мир на четырнадцать лет и шесть месяцев.
– Знаю! – остановил его Филарет и, встав, начал тихо ходить по горнице, причем его лицо сурово нахмурилось.
– Казны не хватило, – продолжал царь, – спасибо, людишки помогли: весь скарб несли. Опять земские посошные брали, с каждого быка.
– Слышь, подле себя дрянных людишек держишь, – заговорил вдруг Филарет, – Михалка да Бориска Салтыковы что за люди? Скоморохи, приспешники! А Морозов в загоне, Пожарский в вотчине!..
Царь покраснел.
– Любы мне Салтыковы, – тихо ответил он, – скука берет подчас, а они такие веселые. Опять матушка им быть при мне приказала.
Лицо Филарета вдруг вспыхнуло, и он резко произнес:
– Не бабьего ума дело в государское дело вмешиваться. Ей грехи замаливать, а не царя учить!
Михаил затрепетал. Он уже чувствовал над собой могучую волю отца.
Филарет подошел к нему и заговорил:
– Господь избрал тебя священным сосудом милости Своей и величия. Тяжкое бремя возложил на тебя народ твой, так будь царем. Дай мир уставшим воевать, хлеба голодным, будь покровом и защитой. Велик подвиг твой, так не скучать и от скуки скоморохов держать надо, а трудиться неустанно, пещись о благе народа своего. Окружить себя надо людьми ума государственного, а не бабьи наговоры слушать. Возвеличить имя свое надо и уготовить наследникам царство обильное, миром упокоенное!
Царь опустился на колени и проговорил потрясенный:
– Батюшка, помоги!
Лицо Филарета просияло, он поднял сына и поцеловал его в лоб.
– Не оставлю тебя своим разумом! – сказал он. – Ну а теперь, пожалуй, и опять на народ надобно. Заждались, чай, тебя бояре, пирования ждут.
V
Твердая рука
Звонили в этот день и в женском Вознесенском монастыре, и каждый удар колокола острой болью отзывался в сердце царственной монахини Марфы.
Дочь дворянина Ивана Васильевича Шестова, Ксения Ивановна вышла замуж без особой любви, по теремному обычаю, за Федора Никитича Романова и мало видела с ним радости. Может быть, оба молодые, оба красивые, они и нашли бы счастье, если бы не их властные характеры, которые, сталкиваясь, были подобны кремню и огниву, высекая искры раздора. Мало было свободы у женщины того времени, семейный быт которого сложился по» Домострою», и гордая Ксения таила в своем сердце мятеж и бурю.
Грозная опала коварного Годунова разразилась и над нею, и стала она в пострижении Марфою. Но не смутила и не огорчила ее эта опала. Не жалко ей было светской жизни, которая мало чем отличалась для женщин от монастырской, не жалко было и разлуки с властным мужем, а окружавшие ее дети доставили ей великую радость, дав волю ее своевластию и удовлетворяя ее материнское честолюбие. В страхе перед ней и покорности взрастила она их.
И как возликовало честолюбивое сердце инокини Марфы, когда в Кострому пришли звать на царство ее кроткого сына Михаила. Знала она, что смиренный сын весь в ее воле, знала, что пока она будет жива, не выйдет он у нее из повиновения, и ее сердце наполнялось и ширилось от гордости, когда, долго отнекиваясь и видя печаль послов, она наконец благословила сына на царство и, как малого ребенка, повезла его на Москву.
Там, в смирении, она оставила его у порога царских палат, а сама отъехала в Вознесенский монастырь, но и находясь в монашеской келье, она правила государством Российским.
Ни одной мысли не скрывал от нее юный царь, ни одного дела не начинал без ее благословения. Возила она его на богомолья и к Троице, и к Николаю на Угреше, окружила его обрядами, окурила его ладаном, зачитала молитвами – и сладок был Михаилу такой образ полумистической жизни, погружавшей его душу в смутный сон.
И в то же время Марфа окружила его своими клевретами из своей многочисленной родни, внушавшими ему мысли и поступки; во главе их стояли грубые Салтыковы.
Мирно в безграничной власти проживала Марфа, забыв о своем бывшем муже, как вдруг вспомнился он всем, взволновал своим именем государство и теперь вернулся в Москву, окруженный ореолом страдания, возвеличенный неподкупной верностью отечеству, любимый народом, чтимый даже иноземцами, умный, гордый, непреклонный, великий отец русского царя.
«Бим – бом! Бим – бом!» – весело гудели колокола, приветствуя царскую радость, а Марфе этот звон казался погребальным, потому что она ясно сознавала, что теперь уже не в силах удержать за собою власть над сыном. Только благословение и проклятие в ее власти, а государевы дела не вершить ей из кельи. И раньше она для видимости сторонилась их, действуя через клевретов, а теперь разве им, грубым и глупым, устоять пред великим умом Филарета и его помощниками?
Призрак власти исчез, как исчезает туман при солнце, и гордая Марфа никла своей головою, украшенной черным клобуком.
Мрачно и уныло было в ее покоях. Служащие при ней чувствовали ее обиду и тихо шептались, осторожно ходя по узким переходам и лесенкам. Монахини строго поджимали губы и молча и сокрушенно взглядывали друг на друга, словно говоря: «Конец нашей власти». А среди тишины звуки колоколов радостно и весело разливались по воздуху.
Не меньше Марфы сокрушалась и упала духом старица Евникия, мать Салтыковых, близкий друг царской матери. Знала она, что в своей заносчивости не видели предела ее сыновья, и чувствовала, что близится теперь час возмездия.
В полутемной горнице – келье, угол которой весь был завешан драгоценными образками, сосредоточенно думая свою думу, в кресле с высокою спинкою сидела Марфа, а вокруг нее суетливо сновала старица Евникия. Кипело ее сердце, и хотелось ей отвести свою душу, но мать – царица хранила строгое молчание, и Евникия боялась нарушить его. Наконец она не выдержала и заговорила:
– Великая теперь радость по Москве идет. Слышь, бочки вина выкатили, тюрьмы открыли, всех с правежа {Правеж – принуждение к уплате долгов, пошлин и т. п. битьем батогами.} свели.
– Радость и есть, – сухо ответила Марфа, – сын мой своего отца встречает. Кто отцу не рад!
– Вестимо, вестимо! Про что же и я? Великая радость! – заторопилась согласиться старица, а сама подумала: «Не вижу я что ли, чего отвод делать?». И досада пуще разгорелась в ее сердце. – Тому и все люди радуются, – продолжала она, – говорят, слышь, царь наш батюшка дал слово ему во всем своем послушании. Все бают, по – новому будет, Филарет Никитич все в руку властную возьмет.
– Кто говорит? – быстро спросила Марфа.
Старица Евникия только этого и ждала. Она приблизилась к креслу и заговорила:
– Бориска был у меня… прямо от палат царских прискакал. Слышь, Филарет Никитич всех в покоях оставил и царя вовнутрь увел. Часа с два сидел и все не уходил. Бориска прискакал, а Михалка ждать остался. Бают, Филарет Никитич словно допрос царю – батюшке чинил.
Марфа судорожно сжала налокотники кресла и сдвинула брови.
– Еще что говорят?
– А еще, что все по – иному будет, – уже слезливым голосом заголосила старица, – что всех верных слуг царских прочь отметут, а на место их у преосвященства уже ставленники заготовлены. Слышь, воевода князь Пожарский уже жалился, что его с головой моему Бориске выдали. Боярин Шеин, слышь, много силы заберет. Мало ли что бают!
– И пусть, – криво усмехаясь, произнесла Марфа, – только одно скажу: никому не отнять у матери ее детища! – и, встав, она твердой поступью прошла по горнице, снова отдаваясь своим мыслям.
В эту минуту в дверь горницы постучались.
– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! – произнес за дверью свежий молодой голос.
– Аминь! – ответила Марфа, остановившись на середине.
В горницу вошла молодая черничка и, земно поклонившись, подошла к руке Марфы.
– С чем?
– Боярин Михайла Михайлович Салтыков просит явиться пред твои очи, мати! – с поклоном ответила черничка.
– Зови сюда!
Черничка скрылась, и скоро в горницу бережливой поступью вошел Михаил Салтыков. Он был молод, красив и строен, но близость к царю сделала его лицо наглым, движенья грубыми, голос властным. Одет он был в богатый кафтан, перехваченный поясом с драгоценными камнями, в его руке была высокая шапка, у пояса нож с дорогой рукоятью. Однако в Вознесенском монастыре он оставлял свою наглость и старался казаться смиренным, отчего его лицо принимало холопское выражение.
Войдя, он истово помолился на образа, потом стал на колени и земно поклонился царственной матери.
– Господь с тобою! – сказала Марфа на его приветствие. – Встань!
Салтыков смиренно встал и поздоровался с матерью.
– Ну что, вести привез? – вкрадчиво спросила старица Евникия у сына.
– Вести, матушка, – ответил он, кладя руку на пояс, – слышь, к тебе, государыня, – он поклонился в пояс, – царь – батюшка с митрополитом пожалуют вскорости.
– Что же, от брашна {Брашно – пища, еда.} встали? – с усмешкой спросила Марфа.
– Не встали еще, а порешили, как отдохнут, так и ехать. Скороходов и вершников от мест не пустили; коней не увели.
– А что же ты брашна не кончил?
– Поспею еще, а до тебя, государыня, прямо от стола утайкой ушел. Думал, скажу вести.
– Что же за вести принес ты?
Салтыков оправился.
– А то, государыня, что царь плакал много и всем нам приказал батюшку своего тоже государем величать. А потом стал он просить его принять над всей Русью патриарший сан, и все просить начали. Тут я и ушел.
Он замолчал.
– А кто рукоположит?
– А бают так, что как у нас на Москве гостит его святость Феофан, патриарх иерусалимский, то…
– Знаю, знаю! – перебила его Марфа. – Что же, так и надо: без патриарха не можно быть. Ну, иди на пир, не то еще встренутся. А на вестях спасибо!.. Скоро, скоро забудут меня все тут, в одинокой келье!
– Только не мы, государыня! – ответил Салтыков, снова земно кланяясь, и, пятясь, скрылся за дверью.
На время все стихло.
– Утомилась я, – тихо сказала Марфа, – пойду‑ка засну.
– Усни, государыня, – участливо ответила старица и, взяв под руку Марфу, осторожно повела ее в соседнюю горницу.
Но Марфа не могла заснуть. Она собиралась с силами, чтобы встретить своего бывшего мужа, теперь почти ненавистного ей за то, что он посягал на ее сына, на ее власть.
Языки колокольные так не бились, как забилось ее сердце, когда она услышала колокольный звон, и старица Евникия, вбежав к ней не по – старчески бодро, испуганно сказала:
– Едет, государыня, едет!
Марфа быстро встала. Ее лицо было бледно и решительно.
– Вели церковь открыть… с образами и крестом выйди. Да прикажи старицам собраться, всех собери, черниц на клир поставьте… Ну, скоро!
В бархатной колымаге, запряженной в восемь лошадей белой масти, с вершниками у каждой, со скороходами впереди, подъехали к монастырю отец с сыном и, остановившись не доезжая врат, вышли из нее и пошли в сопровождении подоспевших к ним бояр.
В этот же самый миг ворота распахнулись, и трое священников с крестом и иконами остановились посреди двора, осененные хоругвями.
Филарет опустился на колени и земно поклонился трижды; потом, подойдя к кресту, он снова опустился и земно поклонился, после чего приложился к кресту, в то же время благословляя склонившего голову священника. То же он сделал пред иконами, а следом за ним то же делал и царь Михаил, и все бояре.
Потом предшествуемый крестом Филарет вошел в собор, где его встретил настоятель с пением клира. Филарет горячо помолился пред алтарем, приложился к образам иконостаса и только тогда обернулся.
Бывшая в миру его жена, теперь инокиня Марфа, в сопровождении целой свиты стариц приблизилась к Филарету и смиренно поклонилась ему в ноги. Филарет тоже земно склонился пред матерью царя и, подойдя к ней, троекратно поцеловался с нею.
Инокиня Марфа пригласила его к себе в горницы, но, к ее изумлению, Филарет отклонил приглашение, сославшись на усталость.
– Будет еще время, мати, – сказал он, – а теперь прости!
Через полчаса Вознесенский монастырь погрузился в тишину и молчание.
Долго молилась инокиня Марфа в своей образнице. Еще больше старица Евникия ворочалась без сна на своей узкой постели.
Да и мало кому спалось в ту ночь на Москве. Каждый чувствовал, что великая сила ума и энергии стала у кормила правления, и добрые радовались, а злые печалились и трепетали.
В одной из горниц Федора Ивановича Шереметева, ярко освещенной лампадами и свечами, за братиною меда у длинного стола сидели князь Теряев – Распояхин, сам Федор Иванович, Иван Никитич Романов (дядя царя, брат Филарета, истый вельможа того времени) и почетным гостем среди них – Михаил Борисович Шеин, прославленный воевода смоленский, вместе с Филаретом вернувшийся из польского плена. Это был человек лет сорока, с широким, добродушным, несколько грубым лицом, с серыми глазами, в которых виделись энергия и насмешливость.
– В Польше еще мы наслышались про бедования ваши, – сказал он. – Ну да велик Бог земли русской! Перемелется все, мука будет. А уж полячью этому! – И он мощно потряс кулаком в воздухе. – Отольются наши слезы, как окончится перемирие! Подождите, не долго им кичиться! Наступит время, когда они согнут пред нами свою выю.
– Истощала вконец матушка – Русь, – вздохнув, сказал Шереметев. – Бог уж с этой местью, отдохнуть впору!
– Все будет, все приложится, – уверенно сказал Иван Никитич. – А теперь допьем чаши, да и расходиться пора. Что не весел, Терентий Петрович?
Князь Теряев поднял голову.
– Тяжело мне, – сказал он, – слышь, скоморохи моего сына скрали.
– Ну? Отсюда?
– С вотчины. При матери в терему он был. Сама она теперь больна – того гляди, Богу душу отдаст.
– А ты здесь! Скачи к себе и там сына ищи!
Теряев кивнул.
– Вот только эти дни пробуду. На великом чине быть надо, а там Филарет Никитич хотел повидать меня. Слышь, отца моего он знал.
– Ну и горе твое, горе! – покачав головою, сказал Шеин.
Князь закрыл глаза рукою и припал к столу.
Гости разошлись.
* * *Спустя два дня совершилось великое торжество рукоположения Филарета в патриархи российские. Следом за этим, как бы в вознаграждение за отнятого сына, патриарх Филарет возвел инокиню Марфу в сан игуменьи Вознесенского монастыря, а сам энергично взялся за управление царством.
В такой деятельности была великая нужда.
Много, много страданий вынесла тогда Россия. Земля была разорена и разграблена. Многие города были сожжены дотла, небоярские усадьбы сровнены с землею. Сама Москва, поруганная поляками, являла собою печальное пепелище. По разоренной земле, как обрывки грозовых туч, рыскали шайки разбойников, буйных казаков, жадные до наживы польские банды и дожигали недожженное, разоряли остатки, грабили нищету. В то же время атаман Заруцкий с Мариною, провозгласив нового самозванца (Ивашку, малолетнего сына Тушинского вора), грозил привести на Москву турок и татар; незамиренная Польша и враждующая Швеция громили Русь на окраинах.
В это‑то страшное, тяжелое время взошел на престол шестнадцатилетний Михаил Феодорович и сразу был окружен мелкими, корыстными людьми, не могущими дать совет и из боязни за себя отстраняющими честных и доблестных людей.
Страшную картину представляла собою в то время Русь. Измена Заруцкого, разбойника Баловня, дерзких лисовчиков, кровавыми пятнами испестрили страницы истории многострадальной Руси. Летописец, современный царствованию Михаила, бесхитростным языком описывает ужасы того времени:
«Во градах же московского государства паки начали быть от воровских людей грабежи и убийства всюду. Ибо во время междоусобия многие казаки воровские пакости деяли, и многие от них таковому делу научились и прекращать не хотели, но, собравшись, тако же творили. Некий предводитель, его же называли Баловнею, и с ним в собрании простые люди, казаки, боярские люди, воровству научившиеся, ходили по московскому государству и запустению его предавали, воюя повсюду. Едины от них воевали на Романах, на Угличе, в Пошехонье, в Бежецком верху, на Беле – озере, в Кашине, в Каргополе, в Новгородском уезде, на Вологде, на Ваге и в прочих тамо прилеглых местах. Другие же воевали украинные Северские города, всюду творя разбой и убийства и многое надругательство являя над прочими. Иных разрывали надвое, к древесам наклоненным привязывая, иных же огнем сожигали. Прочих же, пороху насыпав в уста, сожигали. Женского же полу людям груди прорезывали и верви вдевали, и вешали. Тако над мужским и женским полом различные муки творили. Иные коварства бумаге передать невозможно. И были повсюду стенания и плач»…
И не было никого, кто утешил бы это великое горе. Сам же царь Михаил, от природы добрый, совершенно безвольный, хотя и обладал умом, но не получил никакого воспитания и едва умел читать, вступивши на престол.
Будучи пленным в Варшаве, Филарет с сокрушением услышал весть об избрании своего сына на царский трон России. Но чуткий к правде Михаил разобрался бы в нуждах своего народа, если бы не окружавшие его.
Голландец Масса так писал о тогдашнем состоянии России:
«Царь их подобен солнцу, которого часть покрыта облаками, так что земля московская не может получить ни теплоты, ни света… Все приближенные царя – несведущие юноши; ловкие и деловые приказные – алчные волки; все без различия грабят и разоряют народ. Никто не доводит правды до царя; к царю нет доступа без больших издержек; прошение нельзя подать в приказ без огромных денег, и тогда еще неизвестно, чем кончится дело: будет ли оно задержано или пущено в ход».
И при всем этом земле русской надо было вновь отстраиваться, отбиваться от врагов внешних и внутренних, и на все это нужны были деньги, деньги и деньги.
Всех чинов люди шли к царю, говоря, что они проливали кровь за родину, а теперь терпят великую нужду, и просили сукон, хлеба, соли, оружия, денег, прибавляя без всякого зазора, что иначе им придется идти на дорогу с разбойным делом. Надо было снаряжать войска, нанимать иноземцев – и повсюду развозили призывные грамоты с мольбою о деньгах, хлебе, сукне и всяком запасе. Давали, сколько возможно, но всего было мало. С неимущих посадских требовали по сто семидесяти пяти рублей посошных, а они умирали с голоду. Кроме того, местные воеводы немало думали и о своей пользе и, якобы в рвении своем к государству, не жалели крутых и жестоких мер к взысканию пошлин. Во всех городах торговые площади оглашались воплями людей, выведенных на правеж. Ежедневно в течение двух часов их на площади били палками по ногам и продолжали это дотоле, пока кто‑либо, сжалившись, не выкупал их, платя недоимку. Впрочем, через четыре недели ежедневного истязания несостоятельного отпускали, но вряд ли бывали примеры такой исполинской выносливости.
В то же время монастыри один за другим выпрашивали себе льготы от повинностей, и благочестивая Марфа не только освобождала их, но нередко отписывала им даже вотчины.
Для усиления доходов задумали везде строить кабаки, и казна сама взялась курить вино. Но много ли мог пропить нищий, не имеющий и на хлеб?
Служилые люди и боярские дети, не получая жалованья, разбегались, оставляя свои полки. Землевладельцы и люди посадские бежали от воевод и прятались по лесам, как дикие звери.
Стрелецкие полки были полны своеволия, и надо удивляться, как смогла Русь отбиться от поляков во время вторичного их прихода с Сагайдачным. Все‑таки общее горе соединило сердца всех, и люди в момент опасности, как муравьи, сплачивались дружно и неразрывно.
Немало понадобилось времени великому патриарху московскому Филарету, чтобы разобраться в делах государевых, и его сердце не раз обливалось кровью и сжималось тоскою. Уходя в молельню, он плакал в отчаянии и просил у Бога помощи, а потом снова с писцами и думными дьяками принимался за тяжелый труд. Мысль, что обездоленная Русь видит в нем своего заступника, подкрепляла его. Задача сделать своего сына правителем мудрым удваивала его энергию, и после долгой работы он ехал в царские палаты и подолгу беседовал с сыном, подчинявшимся его гению.
Не было мелочи, до которой не доходил бы Филарет. Узнав, что его сын выдал головою Пожарского Борису Салтыкову, он распалился гневом и сказал сыну:
– На что посягнул! Кто твой Бориска, тобой за день возведенный в бояре, и кто князь Дмитрий Михайлович? Не его ли волею собраны дружины и изгнаны ляхи? Да и раньше он лил кровь свою под Москвою, а и того раньше был отличен от прочих. И он, муж дивный, шел с непокрытою головой по двору этого Бориски! Позор! Поношение!
Михаил потупил голову.
– Награди его! – сказал патриарх.
И Михаил вновь обласкал Пожарского, пожаловав ему в вечное и потомственное владение село Ильинское в Ростовском уезде и приселок Назорный с деревнями, село Вельяминово и пустошь Марфино в Московском уезде и в Суздальском – село Нижний Лацдек и посад Валуй. Но не вернул он этим сердца доблестного воеводы.
Всполошились в Вознесенском монастыре; мать Евникия заохала, чуя приближение опалы на своих детей, а братья Салтыковы потемнели, как тучи, и неделю не казали глаз ко двору. Запечалился и царь Михаил и ради рассеянья поехал молиться русским святыням.











