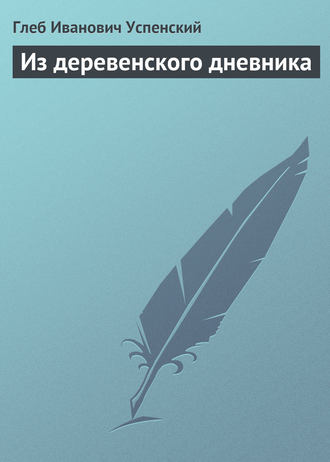 полная версия
полная версияИз деревенского дневника
– А лечить все-таки лечи. Это нельзя. Поезжай к фельдшерице, привези!
– Куда я в евтакую погоду? Это и сам замерзнешь.
– Поезжай непременно!
– Да у меня лошадь споролась; играла да на кол грудью наткнулась, на левую переднюю не ступит.
– Да что же ты за чорт после этого! Бессовестный ты человек! Мало колотил ты ее, теперь бросил умирать как собаку! Найми у мужика, ежели своей лошади нет.
– На что я найму? У меня и гроша за душой нету.
– Ну так я тебе найму. Пойдем со мной!
– Да по мне – нанимай…
Андрей Васильич занимает рубль серебром у мужика, члена банка. Мужик дает ему деньги и говорит:
– Ты вот что, Андрей Васильич, ты хошь и три возьми, да распутай ты меня с банкой с эстой! Ведь ночей не сплю. Народ говорит: «нажился»… Черти эдакие! А я тебе, по чистой вот по совести, какая бывает у человека совесть, например, чистая!..
– Ладно, ладно…
И еще раз жизнь втянула Андрея Васильича в маленькое, но серьезное дело – в семейную драму… Поправившись, больная идет к нему благодарить и рассказывает, что во время болезни родные, мать родная и сестры, выбрали у нее из сундука всё до нитки: «думали, умру!» «Муж в ту пору тоже моей смерти дожидался, а теперь вот, когда бог помог встать, заступаться стал». Муж, точно, стал совсем другой: горой стоит за жену или за имущество – неизвестно. И опять Андрей Васильичу, как человеку деревенских интересов, нельзя не вступиться в дело.
4
Покуда он участвует во всех семейных сходках, покуда он с величайшими усилиями добивается «уступок», то есть покуда, благодаря ему, родители возвращают взятые вещи, возвращают медленно, с промежутками, по полотенцу, по паре чулок, народный говор тянет его в банк: «разбери!» Но, прежде нежели взяться за дело и разобрать как следует, надо отдать рубль серебром члену, которого обвиняют в растрате. Андрей Васильич решается наняться на эту работу у товарищества. Происходит самый обыкновенный наем.
– Много ль тебе надо-то?
– Да вы дайте мне, чтоб хватило и на еду и на табак.
– Много ль?
– Да рублей восемь.
– Это в год, что ли?
– Как в год, в месяц!
– У-у-у ты, боже мой! Куды этакую прорву… Это и совсем банку пристановить надо… Табаку на столько рублев!..
– Дураки вы этакие! – кричит кто-нибудь из тех, кто расслышал, в чем дело. – И на пищу и на табак.
– Больно жирно восемь-то рублев… Этак по восьми-то рублев будем проедать, так нам и с банкой надо по миру пойти.
– Да вы сосчитайте, много ли я прошу-то.
– Клади на счетах!.. Давай счеты! Это лучше всего!
– Он тебе на сорок насчитает! Счеты-то велики!
– Клади, клади!.. Будет галдеть, дьяволы!
Раздается стук счет.
– Клади, – говорит Андрей Васильич: – на харчи хоть по пятнадцати копеек в сутки…
– Куды – столько! Это разор…
– Да ты скажи, – горячась, вопиет Андрей Васильич: – почем говядина? Ну почем фунт мяса?.. Ну?
– Теперь, поди, пост!
– Я говорю: ты скажи цену? Какая цена?
– Ну три копейки…
– Ну три фунта – девять…
– Да это лопнешь с трех-то фунтов…
– Лопну или не лопну – это дело мое! А меньше трех фунтов мне в день нельзя. Попадается кость – в ней тоже фунт целый пропадает весу-то.
– Верно! – раздается голос.
– За три заплати, а уж трех фунтов никогда не принесешь.
– Вер-р-рн-а! – утверждают. несколько голосов.
– Так как же ты хочешь, чтобы на обед и на ужин хватило меньше трех фунтов! – с горьким упреком говорит Андрей Васильич.
– Что ты его слушаешь, – раздаются сочувственные голоса. – Он сам не знает, что у него язык болтает… Ладно! Бери на три фунта – чего там, авось не проешь.
Едва улаживается дело с мясом, как вопрос о курительном табаке вновь поднимает целую бурю, и только после весьма продолжительных прений, оранья, брани, перекоров дело решается в пользу Андрея Васильича.
– Ладно! Пущай! – говорят одни.
– Шут с ним! – заканчивают дело другие.
И Андрей Васильич принимается за работу. Оказывается необходимым разобрать не только книги последнего года, но все банковые дела с основания, причем в течение последних двух-трех лет оказывается такая путаница, которую, кажется, нет никакой возможности разобрать, если основывать все дело на писаных документах и записях. Записи, вроде, например: «дано в кабак 10 р.», или: «Миридоновы за 22 фун. по 13 к. за вичину брата опсвятках повернуть в оборотные» и т. д., без означения года, месяца и числа, – записи, однако, свидетельствующие о том, что в кабак действительно дано, а Миридонова ветчина тоже действительно зачислена в оборотные, – все это требовало других, не писаных документов и разъяснений. Необходимы были словесные объяснения, расспросы и о ветчине, и о Миридоне, и о кабаке. Необходимо было поэтому перезнакомиться не с одной, а с двадцатью деревнями, необходимо было разъезжать по этим деревням, ночевать в избах, расспрашивать и Миридона и Миридоновых односельчан. При этом обнаруживается такая масса приятных и отталкивающих вещей, что знание народной среды, приобретенное в детстве и отрочестве, делается у Андрея Васильича еще шире. «Нет, – решает он: – сюда надо являться во всеоружии знания и опыта, а дела здесь – несть числа!» И мысль о знании мучит его. Дорабатывая банковое дело, он только и думает о том, хватит ли у него денег на пароход…
Наконец дело окончено: выяснены все темные места, все пропуски; все записано вполне, на основании всевозможных справок; с громадными усилиями достигнуто то, что из кармана лиц, заведывавших банком, были возвращены и десять рублей, данные в кабак, и деньги за Миридонову ветчину, словом – выяснена вся сумма недочета и по возможности, с ругательствами, бранью, проклятиями, возвращена в банковую кассу… Дело сделано старательно, справедливо, ничего не утаено. Лучше всех об этом знают виновные, и, по окончании Андреем Васильичем работы, чувствуя, что худое дело как-никак, а снято с их плеч, виновные в банковых беспорядках начинают относиться к нему с искреннейшей благодарностью. Они знают, что могло быть и хуже, что, несмотря на то что Андрей Васильич, кажется, уже до всего доходил, а в самом деле-то до корня не добрался, а без него – кто станет добираться? Такого другого человека не найти. Стало быть, самый корень-то так и останется в забвении.
– Спасибо тебе, вот какое спасибо! – искреннейшим образом говорит один из виновных. – Оправил ты меня!.. Я уж думал – Сибирь мне… Пойдем чай пить!..
– Нет, не хочу!
– С медом! Ну сделай милость, пойдем!
Другой, тоже из числа оправленных, зовет к себе:
– А оттедова ко мне, бражкой угощу!.. уж как мы тобой довольны, вот тебе перед богом…
Нехорошо на душе у Андрея Васильича. Знает он, что люди эти не раз, во время банковой работы, оставляли у него на душе тяжелое, обидное впечатление.
– Обругать бы тебя надо, Игнатий Петрович! – говорит он одному из «оправленных»: – а не чай пить.
– Ну будет! Знаю я! Оставь это, сделай милость, пойдем!
– Да и тебя, Капитон Васильич! И у тебя рыльце в пушку! Уж извини…
– Мы что знаем? – наивничает Капитон Васильич: – мы нешто грамотные? Там писаря напишут бог весть что, а мы отвечай… Нашего брата и так уж пилили-пилили… Я с эвтой банки – ночей не спал… Бог с ней и с банкой! А доволен я, что по крайности ты меня выправил! Кабы помене ты с меня начету взял, я б тебя, вот перед богом тебе говорю, не то чтобы бражкой, а самым что ни на есть… да уж больно ты меня деньгами-то наказал…
– Мало, мало, Капитон Васильич!
– Да бббу-дет вам, христа ради! – умоляет первый из виноватых. – Пойдем чай-то пить, шут с ней и с банкой!
– Нет, погоди… Вот он жалуется, что с него много взято.
– Да пущай его жалуется! Перестанет…
– Да я и не жалуюсь. Благодарим, мол, покорно… Оправили… Ну маленечко многовато бытто.
– Нет, маловато, Капитон Васильич! Давай я тебе на счетах докажу.
– Нешто мы что знаем? На счетах все можно…
– Н-ну нет, брат! – сердясь уже, произносит Андрей Васильич.
– То-то мы не понимаем эфтого. А представляется нашему уму глупому – бытто лишки. Да это что уж! Бог с ними, не про это!.. А что благодарим – больше ничего.
Андрей Васильич не может не волноваться. Капитон хоть и говорит свои речи улыбаясь, но, очевидно, имеет против него зуб, неудовольствие и будет питать его непрестанно, сколько ему ни разъясняй, ни растолковывай. Это один из упорных деревенских земцев, смиренный, подхалимоватый, но злопамятный человек. У Андрея Васильича, знающего все это и не раз выводимого из всякого терпения людьми этого сорта, закипает желание во что бы то ни стало убедить этого земца, сломить его упорное отстаивание явной неправды, про которую знает сам Капитон, да не хочет сознаться.
– Нет, – говорит Андрей Васильич: – ты меня, Капитон Васильич, уж пожалуйста, не благодари, сделай милость. А вот что я тебе скажу. Я было собрался уезжать, думал, что дело это кончено; ну а теперь останусь… Давай опять всем миром проверять книги!
– Что ты! Что ты! вот еще затеваешь! – вопиют оба оправленные в один голос. – Ну ее к богу!
– Нет! – задетый за живое, говорит Андрей Васильич, – давай сызнова. Говори, на чем тебя обсчитали?
– Да будет тебе! Брось ты его, лысого дурака!
– Ну – в чем? – пристает Андрей Васильич.
– Али захотел, чтоб хуже было? А как накатают на твою лысину еще с полсотни – лучше будет?
– Да господи помилуй! Нешто я жалуюсь! – уж вполне виноватым тоном произносит Капитон. – Что вы это! Я только так, мол… Что вы нас, дураков, слушаете? Я нешто – что?.. Опять считать! Нет, уж увольте, и так она вон где, банка-то…
– А надо бы тебя, Капитон Васильич, поприжать! Погоди! Ей-богу, я опять засяду. Я сорок рублей записал на жалованье письмоводителю, то есть будто бы себе, а ведь эти деньги прямо надо с тебя взять.
– Помилуй, что ты! Господи боже мой! Чай, и этого будет! Еще сорок! Нет уж, сделай милость, ты это оставь…
Капитон начинает уж умолять. Андрей Васильич доказывает ему, что он не будет вновь поднимать этого дела потому только, что ему надо ехать, а то бы следовало пробрать Капитона Васильича и не так… Дело кое-как улаживается. Андрей Васильич чувствует, что он делал дело правильно, как мог, никому не помирволил и что протест Капитона он, по совести, имеет право оставить без внимания, хотя знает, что Капитон, испуганный перспективою переучета, только притворился вполне удовлетворенным и что ушел он домой все-таки со злобой в сердце.
5
Надо, надо ехать… На будущее же лето Андрей Васильич воротится сюда же, здесь много у него образовалось связей, знакомства: – куда ж ему возвращаться-то, как не сюда? И где он так много работал, где в нем так нуждались, как здесь?
Он совсем собрался; только денег нехватает… Вопрос о деньгах только что было начал возникать в ряду его размышлений, как случилось новое, совершенно деревенское обыкновеннейшее обстоятельство, которое, однако, заставило сразу забыть и поездку и вопрос о деньгах и опять потянуло в глубь, в темь деревенской жизни.
Явилась сплетня и неправда.
– Скоро ль едешь-то? – спрашивают его дня через два после окончания банковских дел одни из мужиков-приятелей.
– Да вот не знаю… Скоро, я думаю…
– А там про тебя и невесть что болтают! – Мужик-приятель махает рукой…
– Что такое?
– Галдят не приведи бог что!
– Что же именно галдят-то?
– Сказывают так, бытто поделили вы с оправленными-то немалые барыши… Он бытто тебе денег отвалил… Был ты у него опосля банки?
– Был.
– Пил чай?
– Пил.
– А после на пчельник поехали?
– Да, ездили на пчельник.
– Давал он тебе там деньги?
– Давал.
– Ну вот!..
Андрея Васильича сразу хватает за сердце после этого «ну вот!», сказанного его хорошим приятелем таким тоном, который давал этой фразе необычайно оскорбительный смысл: «ну, так, стало быть, недаром они галдят-то…» Вот какой смысл таился в этом кратком – «ну вот».
– Да ведь это я с него восемь рублей за последний месяц получил.
– Поди толкуй с ними!
– Да ведь я нанимался к ним за восемь рублей! Ведь они же должны помнить это?
– Да, так они и станут разбирать!.. Много они понимают… Им нешто что… Получал деньги – вот те и все… Нешто ты их урезонишь? Вон, еще говорят, на Миридоновой вичине Капитана обсчитали… Насчитали по тринадцати копеек, а она по одиннадцати с половиною. Свидетель показывает на тебя, как деньги-то брал… А два ли, три ли рубля Капитоновых не приписано, а он из своих проездил на извозчике в городу… значит, по банкским делам… А с того, что вы поделились-то вместе, не взял лишков-то, потому заодно… Ты брал у него лошадь?
– Когда?
– А онамедни, месяца с четыре назад?
– Это за фельдшерицей-то ездили?
– Да уж зачем там ни ездили… Брал? – говорю.
– Брал.
– Ну вот!..
И опять это «ну вот!» бьет прямо в сердце. На этот раз в нем слышится нечто другое: «Вот ведь все так выходит!..» – как будто бы начиная подозревать, думает мужик-приятель, говоря свое «ну вот»…
– Ну вот, – продолжает он: – они и болтают, бытто у вас с ним давным-давно шуры-муры!.. Да про бабу про эту…
– Про какую бабу?
– Ну вот, что больна-то была… Еще лечил-то, а опосля того имущество ейное выхлопатывал… И про бабу тоже болтают, что, мол, отец ее тоже в банке, а с него нету начету… Да мало ли там! – закончил приятель свою беседу, вновь махая рукой. – Их, чертей, нешто переслушаешь! У них – поди-ко!
Андрей Васильич очень хорошо уже знал, что обнаружить свое негодование – значит усилить даже в приятеле-мужике всевозможные подозрения; знал он также, что разъяснять дело тихим манером – тоже вещь бесполезная, ибо ровно ничего и никому не разъяснишь, да и никто не нуждается в разъяснении, так как галдение это имеет совершенно определенную цель, именно: мироеды и коштаны желают сорвать с одного из «оправленных» по банковому делу магарычи (по-степному «давасы»), и тем более надеются их сорвать, чем срамота, пущенная про него, будет больше по размерам, чем больше будет осрамлено людей, которые за свой срам, благодаря все тому же одному лицу, конечно навалятся на это лицо с гневом, бранью, так что, в конце концов, как ни крепись, а опозориваемый и ругаемый человек должен-таки будет согласиться на такую питейную жертву, размер которой пожелают господа посрамители.
Все это Андрей Васильич знал; знал он, что его срамят, так сказать, по пути, чтобы, осрамленный, он сам сорвал зло на виновнике всей путаницы; знал, что и бабу приплетают сюда и позорят ее – все для того же, чтобы отец бабы, вступившись и за свою и за дочерину обиду, также бы не обошел без ненависти все того же единственного виновника. Знал Андрей Васильич, что все это дело, несмотря ни на что, непременно должно кончиться магарычами, так как виновника, окружа со всех сторон, «припрут» всевозможными способами и т. д., и вместе с тем он также знал, что всю эту историю можно прекратить мгновенно – стоит только дать свои восемь рублей виновнику (который будет упираться до тех пор, пока хватит сил), и пусть он удовлетворит господ мироедов… Но справедливо ли это? Честно ли? И кроме того, разве это не явное подтверждение всех сплетен?
«Нет, – подумал Андрей Васильич: – так оставить этого нельзя». Он знал, что нет никакой возможности ни разъяснить, ни опровергнуть распускаемых сплетен; поэтому, говоря себе: «нельзя», он имел в виду не разрушение этих сплетен и не опровержение их, а ненависть, уже успевшую в нем воспитаться, ко владычеству мироедов и кулаков, к выработанным ими приемам, помощью которых они гнетут и обирают мир. Им, то есть главным действующим лицам этой механики, нужно только сорвать с человека водку – ничего больше. Сколько они пускали и пускают в ход для этого всякой гадости, клеветы, лжи и обмана! Сколько напускают они в сознание народа всякого тумана, к каким подлым взглядам приучают его! Все это сразу охватило Андрея Васильича, и он решился обнаружить, вывести на свежую воду если не все – на это нехватит сил, – то хоть что-нибудь из этих проделок, показать добродушным мирянам, в чем сила этих деревенских умников и авторитетов, осрамить их так, чтобы самому малому ребенку стала ясна их гнусная суть.
Какая же тут поездка?.. Нет! тут есть над чем поработать!
Андрея Васильича «взяло за живое». Предстоявшая работа ничем не напоминала той, которая занимала его до сих пор; это – не утомительное банковое подсчитывание, не бесстрастное расспрашивание о разных разностях, касавшихся банка, не лечение наконец. Нет: в предстоявшем деле следовало быть мудрым, яко змий, и кротким, как голубь. Это было дело высшей политики. Необходим был тончайший расчет, чтобы не обнаружить плана, чтобы напасть врасплох, необходимы были факты и люди, готовые своим словом поддержать их на миру. Предстояла настоящая парламентская борьба. Говорим это совершенно серьезно, так как парламентские приемы, подвохи, подходы отлично разработаны деревней; разработаны особенно потому, что в большинстве случаев результат их – выпивка.
6
Здесь кстати сказать два слова о каштанах и мироедах, властвующих над современной деревней. Коштан – человек, который живет на мирской «кошт»: мир его «коштует», кормит… Между мироедом и коштаном существует значительная разница. Мироед ест мир тем, что норовит его нравственно напугать, придавить. Ему мало, чтобы на него работали за долг, мало запутать человека из-за нужды и нажиться его трудами: он еще желает держать в руках совесть деревенского человека. На сходках он норовит осрамить провинившегося человека так, чтобы тот не знал, куда деться, и потом, за вино конечно, помилует, но так помилует, что помилованный будет «чувствовать» свою зависимость от помиловавшего. Мироед – это самозванный судья, грозный отец деревни (такова его цель), беспощадный каратель всякого дурного поступка… От него, от его слова зависит, чтобы человека навек осрамили, например выпоров его на сходке. Мироед – мастер стыдить, усовещивать, обличать; он постоянно стоит горой за мир, за мирской интерес, за божескую правду и этим приемом затыкает миру рот. Всякий, на кого обрушился его гнев, нарушил именно мирской интерес и божескую правду; он не церемонится в выражениях – ругательски ругает виновного; он так возмущен его поступком, что не приберет ему наказания. «Драть тебя мало, такой-сякой, ррразоритель, вор ты бессовестный!» И, помиловав его, он опять ругается: «Вот только срамить тебя не хочется, мошенника, ради твоего сиротства, каналья этакая, безумная… А т-то бы тебя, шельму этакую…» и т. д. Помилование последовало вследствие обещания вина. Как это делается – читатель увидит ниже. На такого человека работают даром, без всякого долга, потому строг и зол, как чорт; мироеда ненавидят все; но все боятся как огня, потому что это такой человек, который не побоится и не задумается погубить ближнего – только попробуй ему поперечить. Он силен, необыкновенно силен тем, что подрывает у человека, попавшегося ему в лапы, веру в самого себя, ослабляет его духовную деятельность, потому что осуждает его во имя высочайшей справедливости (он знать не хочет никаких смягчающих обстоятельств), а оправдывает также во имя беспредельного милосердия. Человек уходит, чувствуя себя подавленным нравственно, несмотря на оправдание.
Нет никакого сомнения, что больше всего от этого грома небесного терпит простой, простодушный человек, не знающий, по неопытности, всех парламентских махинаций во имя «срыва» и кабака. Таких людей в деревне много, громадное большинство. Подавленный своим домашним хозяйством, своей домашней работой, такой человек не входит во все подробности парламентских затей: он знает, что там есть старики, которые решают дела. Вино мирское он ходит пить – это правда, потому вино вещь хорошая, а во всех прочих делах слушает стариков: «пускай они решают их как знают, – у меня и своего дела не переделаешь». Вот таких-то простаков, составляющих в деревне почти всю рабочую силу (они на своих плечах выносят желающих отдохнуть под старость родителей, стариков и старух, выносят почти все платежи), таких не знающих порядка работников мир и учит в лице мироедов.
Вот украл такой простак мирского лесу, и украл он также по наивности и даже из явной жалости к мирскому добру.
– Я бы попросил у мира, – говорит такой вор, – да ведь вместе со мной двадцать человек, кому и не нужно, выпросят…
Как-то невольно верится этому объяснению. Но если бы даже он украл и потому, что не надеялся на мирское разрешение, а нужда была ему крайняя, то все-таки такой простак никоим образом не мог ожидать того сраму, той всеобщей жажды (возбуждаемой мироедом) осрамить его, стереть с лица земли, какая обрушивается на его голову.
«Поймали, поймали!» – вопиет вся деревня и с позором тащит «вора» на сход.
Здесь мироеды делают свое дело. Страшно смотреть на бедного простака, в буквальном смысле «потрясаемого» необычайно выработанным ораторским искусством иного мироеда. Разбитый вдребезги во имя высочайшей справедливости, опозоренный перед всем обществом, устыженный этою высшею справедливостью в самой глубине своей совести, он в буквальном смысле не знает – что ему делать… Вот-вот его начнут сечь. Розги лежат на печке в сборной избе.
В эту ужасную минуту его вызывают зачем-то в сени.
– Да заткни ты ему, громителю-мироеду, глотку-то! Залей ему, подлецу! – советует здесь в сенях какой-то добрый человек шопотом.
– Отец родной! всё возьмите, только освободите! Ведь драть хотят! Я и не знаю, как быть-то… Отец родной, выручи, помоги! – все отдам до нитки…
– Ну ведерку поставь да наливочки штофа два…
– Хоть три ведра бери… Пятерых овец отдам – всё возьмите, только отпустите…
– Почем овцы-то?
– Да хоть по рублю давай – отдам с радостью.
– Ну по рублю-то я возьму, иди, молчи… Я уж как-никак расстараюсь. Жаль мне тебя стало – вот в чем! Истинно жаль. Глядел, глядел я, думаю: господи, да ведь и на мне, чай, крест-то есть! Что ж это такое? Ведь надо пособить парню-то… Ну как-нибудь…
– Дай тебе владыко небесный…
Этот благодетель и есть коштан.
Коштан – другой тип из числа людей, держащих в своих руках судьбы современной деревни, далеко не идет в сравнение с мироедом: у того задача громадная – перепугать ближнего нравственно, забрать его в руки голой рукой. У коштана – цель мелкая, практическая: поживиться, нажить рублишко, на даровщину выпить и в то же время оставить о себе впечатление человека, заботящегося о твоей пользе. Коштан находится в союзе с мироедом, но исполняет черную работу; мироед никогда не скажет виновному: «ну мирись, что ль, на ведре!» Это – дело коштана. Дело коштана также придумать предлог, который бы дал возможность накинуться мироедам на какого-нибудь простофилю. Со временем коштан также будет мироедом; но покуда ему надо разжиться, и вот он набивает карман понемногу «не плечами, а речами»…
Вот пример коштановой работы:
У мира снимают в аренду небольшой участок земли или луга, положим, за сто рублей. На сходке является коштан и начинает хлопотать, чтобы мир не отдавал чужому, а отдал бы своему, хоть свой и дает девяносто.
– Что мы будем давать чужим наживаться? Пущай же, господь с ним, лучше наш, свой владеет, все нашему миру правильный человек будет и авось поблагодарит… Вот ведь рано ли, поздно ли, а придется нового сборщика или сотского выбирать, ан мир-то тогда уж и волен сказать ему: «мы, друг любезный, тебе сделали уступку – теперь ты нам послужи…» Миру нужны люди благодарные… Вот я что говорю… А десять целковых – велик ли это миру убыток? Да и барыш-то велик ли будет? А как своему отдадим, хоть и дешевле – всегда барыш: благодарный человек отслужит всем на пользу.
Кажется, все верно и справедливо до последнего слова. И точно: мир решает отдать землю дешевле тому из своих односельчан, которого рекомендует коштан. Этого человека, большею частью бедного, кроткого, коштан рекомендует миру тоже с самой хорошей стороны.
– Уж работяга… уж сами, чай, видите… Семья большая… сын в солдатах, и старость идет… Нет, миряне, надо человеку дать поправиться!
Хорошо, отлично, убедительно говорит коштан. И мир все решает по его слову. Но прошла неделя, и что же оказывается? Оказывается, что мужик, которого мир пожалел, совсем не пожалел мира: взял да отдал участок тому же самому мещанину, который снимал его сначала, да отдал не за сто, а за сто двадцать пять рублей.
– Ты что ж это, бесстыдная твоя душа?.. – нападает мир на изменника.
– Простите, православные! Нужда!
Говорит это изменник самым искренним образом – и больше ничего не говорит.
А мог бы сказать многое; нужда загнала его в лапы к коштану, коштан подбил его снять участок, расписал ему все выгоды, обещая помочь «все для твоей же пользы» – и даже денег дал на срок. Мужик согласился; а как только земля досталась по цене низшей, и досталась человеку, находящемуся в руках у коштана, – последний тотчас же затеял переговоры с мещанином, обделал дело за сто двадцать пять рублей, тотчас потребовал с мужика, который ему «подвержен», свой долг (деньги, данные на уплату миру за аренду участка), и когда мужик, разумеется, оказался несостоятельным, то коштан и предложил ему перепродать.









