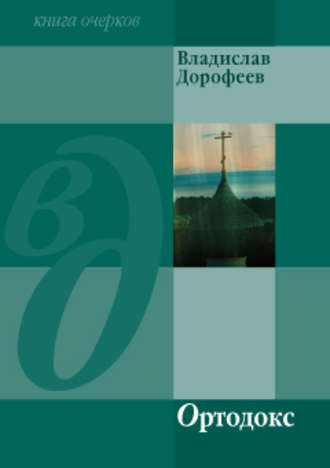
Полная версия
Ортодокс (сборник)
Всякий, исповедующий эстетизм в качестве жизненной основы – противоречив глубинно. Всякий язычник противоречив глубинно. Неземная красота язычества вполне уживается с неземной противоречивостью языческих нравов, и все вместе с многобожием.
Поскольку эстетика – это всегда внешний, всегда поверхностный слой жизни – человека, природы и мира в целом, – но в этом слое недостаточно глубины, чтобы успеть соразмерить и уложить противоречия, недостаточно места для хода механизмов ума и души, – ум и душа постоянно утыкаются в границы эстетики, не успевая осмылить и прорешать все возникающие коллизии и вопросы, как пора уже идти дальше.
Талант Бродского – это талант иллюзиониста, который именно создает иллюзию правды, но не собственно правду, работая и созидая в категориях количества, не качества.
И в этом смысле И.Б. – искренний эксплуататор традиции русской поэтической школы времен Северянина и Бурлюк-Крученых. И.Б. – как бы Игорь Северянин конца двадцатого века – традиций чистого эстетизма. Либо же надо договориться о терминах. Если же продолжать в рамках общепринятого, то получается так.
Вершиной русской поэтики двадцатого века были Николай Гумилев и Осип Мандельштам. Они чудодейственным образом сумели соединить сакральность и технологию. И наметили выход русской литературы из тупика.
Но не Бродский их продолжатель. Бродский – эксплуататор, а не творец чуда, он попытался продолжить раннего Пушкина, – в части продолжения традиции Возрождения и античности и склонности к поэтической технологизации, т. е. прежде всего в части овладения формальными приемами поэтической речи, в части естественного преклонения перед эстетическим/формальным началом языка.
И И.Б. довел до совершенства технологию поэтического языка. Бродский – это логичное завершение эры ранней пушкиноидной литературы.
Бродский и ранний Пушкин – близнецы-братья. Два мелких беса. Но есть отличие: Бродский так и остался ранним.
Чистое естество И.Б. – это чистое эстетство. Подтверждением тому каждый его стих, и в концентрированном виде его слова в его нобелевской речи, образца 1987 г.: «Эстетика – мать этики».
Выдавая это утверждение за выстраданную личную позицию, – И.Б. и не подозревает, что эта позиция устарела трижды – первый раз в тот момент, когда в 1850 г. до Р.Х. Бог даровал в Харране Аврааму право на единобожие: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, (и иди) в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные».
Во второй раз – в 1250 г. до Р.Х. на горе Синай, когда Бог даровал через Моисея десять заповедей, утвердив на земле эпоху Ветхого Завета.
В третий, – и это был последний, окончательный, утверждающий раз, – в 30 г. нашей эры в Иерусалиме, когда Господь Иисус Христос утвердил эпоху Нового Завета: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга».
Все! эстетика языческого чувства и этика ветхозаветного закона окончательно отступили на второй план после рождения этики любви. Навсегда.
То есть, Бродский даже и не чисто ветхозаветный поэт, а во многом еще и языческий поэт, и это несмотря на бытовой иудаизм советских евреев. Или именно благодаря этому обстоятельству, вполне виртуальному. Кстати, приведшему И.Б. в эстетизм. Эстетизм – это небытие. Прежде всего в духовном плане.
Поэзия Бродского – это демонстрация человеческой личности – но не ее развитие; это – сам И.Б., отвергший попеременно, двигаясь назад, христианство и иудаизм, и основавшийся в язычестве.
Что и подтверждает И.Б. самолично в в 1985 г. в очерке «Путешествие в Стамбул» (гл.16): «Ежели можно представить себе человека непредвзятого, то ему, из одного только инстинкта самосохранения исходя, политеизм должен быть куда симпатичнее монотеизма. Такого человека нет, его и Диоген днем с огнем не нашел бы. Более памятуя о культуре, называемой нами античной или классической, чем из вышеупомянутого инстинкта исходя, я могу сказать только, что, чем дольше я живу, тем привлекательнее для меня это идолопоклонство, тем более опасным представляется мне единобожие в чистом виде».
Но и не слыша этих его слов, почти ясно из его поэтических текстов, что Бродский – именно языческий поэт. И он демонстрирует это и всячески подтверждает, исповедуя и превознося античную поэтику и поэтику Возрождения, которая черпала себя из античности. Подобное к подобному.
Языческий поэт двадцатого века, – как и любой другой, как и любого другого, – должен найти/обрести почву/основание под ногами. Вот И.Б. и обрел свою почву среди себе подобных.
Языческая поэзия Бродского – это поэзия дикого зверя, которого загнали на арену – ах, как ярки его глаза, как бурно вздымается грудь и западают бока, как стремителен зверь в круговом беге.
Но ведь это – дикий зверь – от него нет никакого прока: либо быть убитым в бою на арене цирка, либо быть отпущенным в лес, где он будет служить только самому себе, чтобы потом уйти в небытие. Но в любом случае ему не жить среди людей.
Дикий зверь – это даже не домашнее животное, которое может испытывать и переживать любовь к человеку. Как далеко ему еще до слова.
Хотя, конечно, – повторяюсь, – любая первозданность выглядит свежо и живо. Поэтому поэзия Бродского кажется – и есть таковой – энергичной и сильной. Как волк, который физически силен и всегда внешне энергичен, ибо свободен от обязательств.
Бродский – это волк русской поэзии.
Но ведь есть домашние псы, которые бьют волка. Волкодавы. Но они еще и способны на любовь. В ночь на 10 июля моей беременной жене Лене приснилось, как я убил волка.
Бойскаут от культуры. И.Б. остался книжным человеком, книжным бойскаутом, который ни перед и ни за что не отвечает, не хочет отвечать.
И одновременно Бродский катастрофически, невероятно необразованный человек. Конечно, он многое, почти все знает в литературе и в поэзии Европы и России, но он совершенно ничего не знает о духовной цивилизации, о духовной культуре, о человечестве в Святом Духе.
Несчастный интеллектуал. Парвеню. Во всем. Особенно остро в публицистике – конечно-конечно: в эссеистике!
В стихах И.Б. нечаянная и негаданная радость самообразования прет отовсюду, выпирает эдаким прыщом, – это когда хочется все, все что знаю, впихнуть во все, что пишу.
Бродский – не образованный, Бродский – самообразованный человек.
Бродский – банальный проповедник. Но что он проповедует? Язычество в поэзии. Или поэзию язычества?
Свобода И.Б. осталась в рамках языческого мира – что хочу, то творю – не более, не далее.
Жалкий гений места.
Для того, чтобы быть, ему надо к чему-то прицепиться, всосать в себя что-то зримое, пахнущее временем и языком.
И.Б. даже и не понимает, что он – есть отчаянный жалкий и бедный парвеню, когда с упоением описывает всю эту гниль и ветхость итальянского пыльного снобизма, венецианского пыльного быта. Который даже виртуальнее советского бытового иудаизма.
Благородства не достает. Увы, это кровь.
И у И.Б. женская сущность, он метафизически капризен и обидчив, он слишком от внешнего слова, он слишком традиционен в этом смысле.
Бродский мне чем-то напоминает ребенка, ребенка-вундеркинда, который удивителен и неповторим в рамках детского мира, – его результаты, слова, поступки удивительны и несоизмеримы ни с чем угодно – но лишь в детском мире; при соприкосновении со взрослым миром этот детский гений – растворяется, теряется, исчезает, усредняется.
В России детской мечты И.Б. был гений, он был – сверху вниз.
В России духа – он взрослый, как и все, – и вот он уже всего лишь неловкий шутник и странный учитель, вечный отпускник, жалкий бес, бедный Ося, – который умер в убеждении, что его отец и мать, которые остались в России, умерли рабами, а он умрет свободным человеком, потому что не в России.
Вот, что ляпнул И.Б. в своей нобелевской речи: «Лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии». Самый его неудачный каламбур.
Неужели И.Б. не понимал, что этими словами он обрек на рабство около двухсот с половиной миллионов человек, живших на тот момент в России?! Что невозможно?! Никак.
Нет. Не понимает.
Жалкий недотепа, а в смысле понимания/осознания свободы – почти ничтожество.
Безусловно И.Б. – в итоге – стал – в итоге – свободен – в итоге. Но это – свобода булгаковской Маргариты, намазавшейся кремом Азазелло, чтобы лететь на ведьминский шабаш. И это свобода от чего-то, а не во имя чего-то. Мазью Азазелло для И.Б. был волчий билет невозвращенца домой – невъездная виза.
Высылка Бродского из СССР в 1972 г. была путевкой в литературный рай.
В семидесятые годы мало-мальский талант, изгнанный из СССР, автоматически становился на Западе фигурой. А Бродский еще и настоящий талант.
Но И.Б. не достало масштаба А.Солженицына, чтобы вернуться в Россию, когда стало можно, и недостало гения Бунина, чтобы состояться и за рубежом. Хотя, конечно, он шел по пути Бунина, именно Бунина эмиграционного. Но Бунин стал Буниным в России, а Бродский стал Бродским за рубежом, на волне холодной войны, и ненависти к «империи зла»/СССР. Т. е. Бунин – Бунин сам по себе, Бродский – Бродский благодаря чему-то.
Благодаря большевизму, благодаря диссидентству, благодаря сионизму – И.Б. сделался гением места, светским гением.
Конечно, главное, в чем я не могу отказать И.Б. – это мирская, материалистическая, земная свобода. Он достиг свободы слова.
Хотя, конечно, духовность, духовное начало в этом слое почти вовсе не размещается. И потому И.Б. не достиг свободы духа.
Для него открытием стала первичность языка слова. Но ведь, чтобы относиться к этому постулату привычно, достаточно знать Новый завет, причем, не весь.
Духовность Бродского начинается, когда он выходит за границы эстетики – в стихах русского периода, в его первых зарубежных стихах, в его прозаических размышлениях о смерти и жизни родителей без него. Когда он говорит о том, что он переживает телом!
И.Б. всегда страдал от своей духовной неполноценности. Какой-то стопор мешал ему выйти на простор веры.
И стопор этот – Ветхий завет. А не антиБожественность. Поскольку И.Б. очевидно и подчеркнуто – религиозен: «Рассудок сыграл тут очень небольшую роль. Я знаю это потому, что с тех пор уходы повторялись – с нарастающей частотой. И не всегда причине скуки или от ощущения капкана: а я уходил из прекраснейших ситуаций не реже, чем из ужасных. Как ни скромно занятое тобой место, если оно хоть сколько– нибудь прилично, будь уверен, что в один прекрасный день кто-нибудь придет и потребует его для себя или, что еще хуже, предложит его разделить. Тогда ты должен либо драться за место, либо оставить его. Я предпочитал второе. Вовсе не потому, что не способен драться, а скорее из отвращения к себе: если ты выбрал нечто, привлекающее других, это означает определенную вульгарность вкуса». – «Меньше единицы», ч.2.
Хотя эта религиозность и не осознанна, и не сформулированна. И потому, наверное, только светски, мирски он преодолел тяготение и инерцию Ветхого завета. Но манию Ветхого завета – нет.
И.Б. страдал от своей поверхностности, поскольку понимал, – если и не логически, но условно, творчески, – что эстетическая сторона жизни – это очень незначительная ее часть – это внешний поверхностный слой.
И в этом смысле И.Б. – внешний человек.
Например, описывая и оценивая формалистически, языково и политически русский мат русских рабочих, – И.Б. не осознает сатанизма мата, бесовской природы сквернословия/брани.
И.Б. говорит: «Человек – это сумма поступков». И всю жизнь неформально и почти неосознанно борется с Богом.
И.Б. – особенно это заметно в прозе/публицистике, – пусть в эссеистике, это не столь предметно/конечно, – всегда подспудно борется со Христом. Причем, не в принципе, а как бы отстаивая мифическую фигуру, именно – словесную фигуру свободы выбора.
И.Б. никак не мог остановиться в своем противостоянии власти. Даже если – это власть Христа.
Из дневника: «В итоге Бродский свихнулся на почве борьбы с деспотией, властью, системой. Вначале он победил Бога в себе, а затем и тело свое решил победить – как последнюю систему, в которой он жил.
Бродский сидел на диване и размышлял о себе, и о времени. Ему было скучно, хотя и весело, потому рассуждать о себе он любил. Но не любил рассужать, потому что он считал, что любой порядок, – а последовательность рассуждения – это уже порядок, уже система, уже деспотия, уже власть, – вреден и должен быть ниспровергнут.
И тут Бродского охватила горячка. Он взял нож и принялся за разрушение собственного телесного порядка – путем отрезания от тела частей и кусков.
Вначале он отрезал себе язык, затем член, потом откромсал с помощью молотка правую ногу, затем левую, отхватил левое ухо, затем правое, потом отрезал ягодицу – одну и другую, затем левую руку, потом покромсал торс со всех сторон, потом отрезал нос, щеки, срезал скальп, в довершении всего – голову. И осталась на диване рука с ножом и торсом.
И этот торс и эта рука – это было все, что осталось от И.Б. – свободного человека в свободном мире демократии, выбравшего юдоль свободного самоубийства, вопреки юдоли мученика или деспота в деспотии.
Через месяц рука и торс в жарком и сухом воздухе мумифицировались.
Но и через год, и всегда свободная мумифицированная рука продолжала свободно сжимать нож выбора, провозглашая, защишая и свидетельствуя о свободе демократии – вопреки свободе деспотии.
Бог для Бродского завершился, как только он взял нож для вивесекции собственного храма – собственного тела – ведь храм тела для души был покорежен навсегда. Безвозвратно.
Впрочем, правая рука, если она когда-нибудь разожмется, сумеет по крайней мере перекрестить торс, то место, где сердце могло бы биться, если бы голова оставалась необрезанной.
И в этом его спасение. Восхваляемая И.Б. интуиция спасла его и на сей раз. Оставив ему правую руку. Оставив ему шанс креста. Ему – мелкому бесу, это – если метафизически. А по-человечески – парвеню, свихнувшегося на демократии.
Созданный русским языком, и его, русский язык проклявший. Мелкий бес. Кукушонок».
Жил Бродский в свое удовольствие и умер за ради своего удовольствия. Никто и ничей, никак и ничто.
Хотя по большому счету, это и не важно. Его жизнь – это его личное дело, его личная ответственность перед Богом. Если, конечно, он не приносит беды окружающим. А он не приносит беды окружающим. Правда, он не приносил и короткой помощи. Он показывает новый путь познания жизни, путь новой свободы. И, слава Богу!
В чем его величие?!
Скажем, он открыл новую свободу слова.
Но проза И.Б. часто тщедушна, жалка, не вкусна. Это – вкусовщина, это не вкус. Его проза отличается условностью в выборе предмета. Он никак и ничего не писал о месте, где жил – об Америке – лишь вскользь, понимая, что придется писать, в том числе, скучно-правдиво-грубо-жестко-нелицеприятно, чего он позволить себе не мог, – ведь где же тогда жить, зарабатывать!? И ничего не написал про Израиль – не хотел разочаровываться. А про Россию, Стамбул, Венецию, Бразилию и пр. – можно свободно, не заботясь о последствиях. Приспособленческое начало.
Величие такого человека, как И.Б., – это величие личности во времени, но не времени в личности.
Только соединяясь, величие времени и величие личности дают вселенского гения. Но не в случае И.Б.
Порой банальный, слащавый поэтический язык.
Иосиф Бродский делает мир единым. Но не словами или мыслями, а интонацией. Поэтической интонацией. Обыденной поэтической интонацией, приближающейся к человеческому дыханию. И это не новость.
И он всегда пишет от потребности и по потребности. И это не новость.
Настоящий литератор – это песочные часы, как их ни поставь, – они отмерят одно время.
Не так с И.Б.
Если его перевернуть, песка не хватит, чтобы покрыть время, уже однажды И.Б. отсыпанное.
Его труды жизненные противоречивы, как и он сам.
Более половины нобелевской речи И.Б. отдал борьбе со своими врагами – критиканством/зубоскальством, деспотией, вкусовщиной, рабством, энтропией, местничеством, мизантропией, усредненностью, обезличенностью, системностью; но все эти враги в нем самом сидят, – и все вылезли в нобелевской речи.
Но все вместе взятое сочетается с даром огромным, нечеловеческим. Заслуга И.Б. в том, что он не изменил дару.
Мне часто хочется приголубить И.Б., погладить его гладкую, лысую голову. Потому что мне его жалко.
Поэзия И.Б. – это талант, превзошедший человека, инструмент, превзошедший автора.
Все остальное в И.Б. – это человек, недостигший своего таланта. Апофеоз инструмента. Когда нет Бога – все дозволено. Да. Именно это демонстрирует И.Б. во всем остальном.
Эстетическое пиршество И.Б. означает на самом деле… Да ничего не означает! А часто и простое хамство.
Главное! Поэтическое изобретение Бродского – в сближении человеческой поэтической потребности с человеческой потребностью в хлебе и воде. Именно! Ибо потребность И.Б. продавать поэтические книжки в супермаркетах – это основное открытие И.Б. для мировой поэзии. И возможным это откровение стало возможным благодаря природе русского языка.
И это было непросто.
Я его полюбил и примирился с ним, простив ему его необоснованные и мелкие нападки на духовную и отеческую жизнь (он – сам того не желая), – после его «Полутора комнат» и невероятной боли строк о родителях. Там слезы и страх, раскаяние, терпимость и сочувствие. Эти строки пропитаны слезами и страданием. Читая, видишь – нет! – чувствуешь комок в горле своем и его.
И И.Б. примиряет непримиримых.
И.Б. примиряет меня с родителями моей жены. Но вряд-ли их – ибо они никогда не прочтут И.Б.
Все равно, значит совершился акт творческой воли. Хотя бы по отношению ко мне.
И.Б. примиряет меня и с искусством.
Искусство – это хорошее занятие, нужное, важное, интересное. Конечно, если это хорошее искусство.
Бродский – это хорошее искусство, сильное, нужное – отделяет зону хаоса от человека. На том ему спасибо.
Из дневника: «Бывает, я боюсь дня – вновь страх опоясывает душу. Вчера (28 января, 1996 г.) поздно вечером (уже ночью) сразу два сообщения о смерти: умерли – великий русский поэт Иосиф Бродский, и отец одной моей бывшей журналистки. Смертельный вечер. Смертный вечер. Низко поклониться Бродскому остается. И остаться в таком поклоне».
2001, июль
Из России в Россию
посв. Л.
3 июня, 1994 г.
Я никуда не приехал, ибо я никуда не выезжал. Дорога колдует. Все время играю. Всегда.
Люди живут, например, как Фотина. Она уморительна и серьезна во время покупки черных колготок. Выставив язычок, рассматривает на свет прозрачную черную кисею, слушает продавщицу, задает вопросы, оставаясь абсолютно серьезной. Она не играет, она так живет, она максимальна в настоящем времени, в настоящих обстоятельствах, ее почти ничего не смущает в настоящем, ничего не волнует в будущем, или вовсе ничего.
Я могу в той же манере разговаривать с барменом или безобразным иностранцем, но для меня это – игра. Я могу раскрутить любого человека и быть ласковым с врагом или неприятелем, или человеком глупее меня, но это для меня – игра.
Фотина живет по-настоящему. У нее редкий вкус в одежде, она ходит красиво и всегда внешне жизнерадостна, кажется, при этом воспитанной, и необычайно энергична и напориста.
Впрочем, довольно о ней.
Последние несколько дней, готовясь к дороге, я стал нервничать, затем злиться на себя за свою невыдержанность, точнее, за свое внезапное беспокойство.
Выражается это в трудном вставание по утрам, некоторой несобранности, хотя это могло быть вызвано началом проекта НСН. Это – моя новая игра. Я постоянно играю – в мужа, в отца, в репортера, в звезду, в друга, в предателя, в любовника, в негодяя, вот теперь в одного из руководителей и создателей информационного проекта национального масштаба – НСН. Я уже влиял на умонастроения миллионов людей на восточном побережье страны. Теперь будет возможность влиять на общественное сознание миллионов и миллионов в стране. Я готов к этой новой роли. Эта роль – для меня. Но это новая игра.
Все перечисленные роли оказывались малы и недостаточно глубоки для меня. Я их пережил и прошел. Где же моя новая роль – что она, кто она?
Писательство, отцовство, супружество – может быть так?! Не будем загадывать и перебирать. Войдем вновь в полноводные воды жизни!
Дорога колдует.
Сегодня колесил по городу: перед отъездом из Москвы в Хабаровск за женой и детьми, я ходил по магазинам – покупал книжки, игры, кое-что еще. И дважды ездил на машине – с Фотиной и случайным водителем. И они оба нарушали правила. Фотине сошло с рук, а водитель, который также развернулся против движения, попал под штраф.
Москва постепенно приобретает исторический облик – ремонтируется, реставрируется, отстраиваются дома. Москва делается красивой. Затем я отдал на сохранение и ухаживание свой бонсай, сосну о четырех стволах, и поехал в аэропорт. По дороге разговорился с водителем, который возит время от времени иностранцев из Шереметьево в Домодедово на рейс в Новосибирск. А в Новосибирск они едут в центр по сердечно-сосудистым заболеваниям, где им делают операции на сердце. Операция стоит $30 тысяч, КПД – 90 %, что выше, чем где-либо за рубежом. Так сказал водитель. Интересно, что вместе с ним я в третий раз за день пересек разграничительную линию на проезжей части улицы, на сей раз обошлось. А еще я сегодня в самый последний момент отказался смотреться в расколотое зеркало – плохая примета. А еще я сегодня купил пиджак за DM201.
Авиарейс Москва-Хабаровск. Возможно, последний раз. А сколько было прежде?! Много.
В аэропорту Домодедово вспомнилась эйфория, которая была в стране, когда начался передел власти. Помню, как я, наблюдая грязь и разруху в этом же аэропорту в 1991 году, думал, когда же это все изменится!? Я говорил себе, что, конечно же, невозможно вслед за политикой изменить экономику, но как хотелось верить в чудо. Я убеждал себя в том, что, конечно, пройдет много времени, прежде чем что-то изменится. Как же хотелось заглянуть вперед.
Прошло три года – нет изменений, грязь, убожество, толчея, разве что есть холодное пиво, сардельки и денег побольше в кармане. И другие поводы.
Пишу, сидя в кресле у иллюминатора, над головой темная лазурь неба, кипень света ушла за горизонт, мы летим, обгоняя мое время. Небо цвета бордо и пастельной неопределенности в соприкосновении с легким бризом фиолета, переходящего в синь и темную лазурь с оттенком бирюзы.
То есть, я можно сказать, пишу, смотрю, мечтаю, думаю о жене, которую хочу. И вдруг бросаю взгляд и вижу в проходе мертвое женское лицо. И пошла, блядь такая с глаз долой. Она и пошла.
А за бортом дивно. Чернь волнистая облаков, крыло, рассекающее что-то, и еще более потемневшие облака. Красота навсегда – летим мы или нет, она есть всегда. Входим вовсе в ночь, багряное и неопределенное, пастельное ушло, осталось только лазурное, голубое и нежное серое. Рассвет нас не оставит, он нас вскоре встретит восходом солнца, таким же мощным движением вверх, каким оно было вниз.
Фотина, конечно права, – у меня не просто ужасный характер, я еще и капризен, и излишне многозначен, и амбициозен, и закомплексован абсолютно и безо всяких поводов. Одним словом, барышня. Так уж и барышня?! Не так уже, но, видимо, не без того.
Пустота не терпит пустоты. Ночь абсолютная держалась совсем немного – минут 15–20. И пошел восход алеть, и небо высветлило. И кромка крыла высветлилась.
Только я зажевал эти мысли крылышком птички, как голос справа – «ты – Дорофеев»?
Три года, как я не работаю на Хабаровском телевидении, а люди помнят. Видимо, что-то важное для людей я все же сделал, если спустя три года помнят мою фамилию незнакомые мне люди, значит, значит, не зря в Хабаровске я работал, – для людей я работал, я менял их жизнь. Люди это и помнят. Оценили.
Розовое вновь выскочило, будто пробки со дна, выпущенные из под руки тяжелой. И уже не розовые всполохи, уже розовые свитки разворачиваются и перемешивают все со всем. А внизу темень облаков – и темное брюхо самолета пояшет этот воздух в неизбежном движении вперед. Да.
А меня где-то ждут и любят, и я жду и люблю. А у Фотины сегодня были грустные глаза, большие, блестящие, но печальные, как всегда, независимые и крепкие, настоящие. Славная девочка. Я ее, конечно, не обижал, проверял, разве что.
А на небе уже неразливанная синь, она вышла не вдруг, багрянец легкий сменился розовым, которое вышло на небо пластами, чтобы уйти в желтое, которое затем обернулось бледно-голубым и иссиня-темным.









