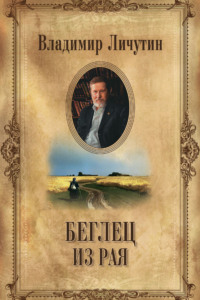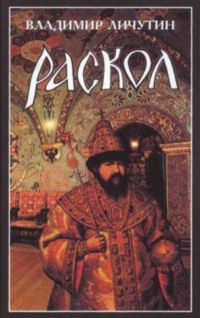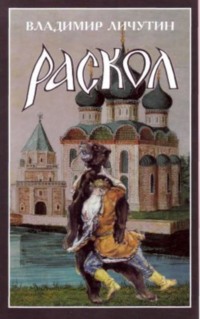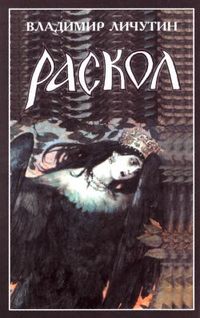Полная версия
Последний колдун
– Этой рыбки каждый хочет, чего там, – лениво шевелил пятнистыми губами, и голову уже уютно прислонил к локтю. Ему было хорошо тут, и оттого душа с каждой минутой добрела. «И то сказать, – бестолково думал Тимоха, до хруста зевая, – живут в городах беспуто. Да и какая там к черту жизнь? Не однове бывал. Только усталь, нашатаессе – ноги болят, пива напьешься и вылить негде...»
– А у тебя там... ничего? Ну этого. – Покрутил Саня ладонью и прищелкнул пальцами, и даже лисью улыбку родил на лице, но глаза вовсе затаил под нависшим лбом. «Скобарь хренов, – травил душу, уже ненавидя Тимоху. – Тряхнуть бы за воротник».
– Да как чего нет. На бутылек дашь, дак и в расчете, – потерял осторожность Тимоха.
Саня торопливо полез за пазуху, добыл портмоне из тисненой кожи и двумя пальцами выудил новенькую хрустящую пятерку.
– Не-не, сдачи у меня нет, – притворно иль с каким дурашливым расчетом, а может, от давней деревенской простоты и верности данному слову вдруг заотказывался Тимоха Железный. – Ты, брат, тоже деньги не печатаешь? Не печатный, говорю, станок имеешь, деньгами-то соришь. Ну да ладно, руль с меня, должок... Эй, Витьк, – крикнул сыну. – Ту, что на Вакоре взяли... отдай им.
Мальчишка уж вовсе синий, хлюпая носом, из ящика потянул за хвост рыбину, а поднять-то и не смог, и бархатно-черная костяная голова легла у ног, чешуя на брюшине и под перьями тускло отблескивала, и сквозь просвечивал молодой янтарный жирок. «Во полотуха, – обрадовался Саня, мысленно возвращаясь в прежнее деревенское житье и вспоминая давние рыбацкие удачи. Даже слова деревенские и приметы, будто бы напрочь забытые, вдруг родились в нем. – Во полено, кэгэ пять вытянет. За такую чурку в городе сто рэ и с руками оторвут». Все прикинул и подсчитал мигом, пока с трудом закатывал семгу в опустевшую дерматиновую сумку, но на лице, однако, хранил постную и пустенькую улыбку.
– С лодкой-то чего там? – вспомнил вдруг Тимоха. – Эй, Витьк, сынок, а ну глянь, чего тамотки с мотором?.. За механика у меня, – похвалился, довольный.
– Да уж все, – без смущенья признался Саня и снисходительно прихлопнул мужика по плечу. – Орел, гляжу...
– Да и ты не пальцем делан. На арапа норовишь.
И они дружелюбно рассмеялись, довольные жизнью и друг другом. Саня уже представлял, как похвастает семгой в Ленинграде в близком кругу, подсолит ее скромненько, дня два даст выстояться, а после напластает истекающее жиром рыбье мясо, как ведется в родной Кучеме испокон (не тонкими городскими ломотечками нарежет, которые просвечивают банными листиками, а именно напластает малосолку весомыми кусками), и тарелку, арбузно пламенеющую, небрежно, с пристуком водрузит в середку полированного стола да окружит полудюжиной белого вина, прямо из холодильника, слегка прихваченного инеем, и будет тогда ой как горделиво и радостно от собственной щедрости.
А у Тимохи свое крохотное веселье: уж так ловко выудил пятерку, прямо не отходя от кассы, посреди реки, и не надо будет нынче клянчить у бабы на опохмелку иль тайком рыться в шифоньере, отыскивая схорон, а можно прямым ходом двинуть в лавку за светленькой и отовариться со спокойной душой. В общем, пустячок-пустячок, а приятно.
Степушка угрюмо копался в лодке, разбирая поудобнее кладь.
– Эй, долго ты там?
И едва Саня успел занести ноги в посудину, как Степушка резко, с надсадистым хрипом выпехнул шестом лодку на речную струю и запустил мотор. Усаживаясь, Саня подтянул поближе к себе дерматиновую сумку и, чуя ее грузность, весело подумал: «Да не-е, пожалуй, все семь кило тянет».
– Ты слышь, ты не гляди на меня, как волк на бердану, – подмигнул Саня. – Мне завтра отлетать, мне рыба во как нужна, – черкнул ладонью по шее. – А ты успеешь, раз остаться решил.
Но брат не ответил, отвернулся в сторону берега и до самой деревни не проронил ни слова. Дом приближался, а Степушка мрачнел и горбился все более, и, когда порой вскидывался он, оглядываясь вокруг, в глазах его плескалась такая тяжелая звериная тоска, что даже Сане становилось не по себе. И тут ему впервые вспомнилась жена (как-то отрожалась она там, не случилось бы какой беды), и чувство вины слегка царапнуло душу.
По внезапному наитию иль постоянному ожиданию опасности, но сразу в избу не пошли, а бельевую корзину со снастью и сумку с рыбой занесли в баню, сунули под лавку в настуженных сенцах. Баню, видно, только что протопили, и еще горчило угаром. Знать, мать постаралась, и хоть дулась на сыновей, но и не забывала о них и, не ведая, когда вернутся, на всякий случай подкинула в каменицу дровишек и, как всегда, угадала. Сгодилась баня, в самую пору пришлась.
Избу тоже помыли, выскоблили после гулеванья, винной запах истончился, его перешибло березовым листом. Параскева Осиповна сидела на прежнем месте в переднем углу, словно бы и не покидала его, скрестив босые отекшие ноги. На детей глянула холодно, буркнула лишь, обирая ладонями сивую голову:
– Баня поспела... Идите, коли хотите.
– Я пас... я пас. Жары не переношу, – торопливо заотказывался Саня. – Ты, Степка, то-то не забудь.
8
Степушка маетно потыкался по углам, мать возилась у обеденного шкафа отвернувшись: сутулая спина каменно и неприступно горбилась. В сени вышел слепо, как бы на ощупь, возле ворот притих, не решаясь откинуть щеколду. Тихой стала изба, точно вымерла после свадьбы, только в волоковое оконце на повети с подвывом совался ветер, да где-то на подволоке шуршали, ссыхаясь, веники. Прислушался Степушка, затаил дыхание, стеснил в груди, и там, в горенке, за дверью, обитой кошмой, уловил почти бесплотное шелестенье шагов. Кто-то пугливо таился там иль подслушивал, знать... И оттого, что все творилось так глупо до смехотворности и непоправимо, Степушка вновь вcкипел и, злобно дурачась, с грохотом распахнул ворота, неожиданно загремел тазом о косяк и едва не выронил его, и сердце мучительно оцепенело.
– Сте-пуш-ка-а, – позвали сзади робко.
Может, ослышался, может, половица где-то скрипнула иль ветер вздохнул? Но обернулся резко, словно бы готовый ударить, ощетинился весь, а Люба готово приникла к Степушкиной груди, пробежала пальцами по пуговкам байковой рубахи, пропитанной потом и костровым дымом, и неслышно скользнула ладонью за пазуху, к самому телу. От прохладного прикосновенья Степушка вздрогнул весь и, внешне оставаясь неприступным еще, в душе уже простил.
– Пощади, а? – попросила Люба жалобно, не поднимая глаз. И от одного только покорного слова, лишенного какого-либо упрека, Степушка почувствовал такую виноватость, от которой загорелись уши, все напряглось внутри, готовое лопнуть, рванулось к самому горлу щемящим комом, а после ослабло, отпустило, дыханье родилось ровнее, но почему-то слеза выступила, мелконькая, едкая, радостная, и повисла на опаленной реснице, мешая смотреть.
– Какой я дурак. И чего я так?.. Дурачина, остолоп.
– Успокойся. Оба хороши, чего там.
Люба затаилась на груди, как мышка, от ее ровно прибранной черноволосой головы пахло земляничным мылом и горьковатой полынной сухостью.
– Можно я с тобой? – попросилась вдруг и оробела.
– Я же в баню...
– Ну да...
– А ловко ли? – смутился Степушка и услышал, как вновь зажглись уши, уже от стесненья. Ему никогда не случалось мыться с женщиной (единственно разве с матерью в далеком детстве, но то иное дело), и в этом он видел какой-то особо сладкий и запретный грех. Люба уловила заминку и, мучаясь от желанья и стыда, шепнула:
– Провожу только... Хорошо?
А на улице распогодилось, как в день свадьбы, ветер раздернул облака, и сухая стылая голубизна пролилась на дорожную хлябь, высветила деревню: куда-то угрюмость пропала, и даль, омытая луковой желтизной, празднично загорелась. Улицу перебежали, словно боясь, что их стерегут, грязь хлестнула по голым икрам, и Люба охнула, а после засмеялась тонко, с близкой слезой.
– Чего ты? – грубовато спросил Степушка, зорко и подозрительно оглядываясь, но угор сиротски пустел, и только черная поджарая собака упрямо сторожила кого-то.
– Глупые мы...
– Аха...
Стояли у бани и медлили, дверь в сенцы была подперта осиновым колом, и сквозь задымленные отпотевшие щели пробивало настоявшейся горечью. О чем было говорить – не знали, но упрямо тянули время, каждый порывался что-то сказать и боялся неожиданным неверным словом нарушить вновь зародившееся доверье.
– Ну, пошла я, – шепнула Люба, а сама о чем-то молит, и в черемуховых напрягшихся глазах студенисто переливается настоявшаяся влага. Степушка отпнул ногой кол, скрипучая дверца сама откатилась, зазывая в сумерки, и, то ли прощаясь, а может, подталкивая мужа, Люба взмахнула ладошкой, но Степушка торопливо поймал ее и потянул за собой. А дальше все случилось, как во сне, и смутно воспринималось. Люба затаилась в сенцах на лавке, а Степушка накинул на каменицу ковш-другой крутого кипятка. Переждали, пока мохнатый хвост шипуче тянулся, унося в себе угар.
Сидели молча на разных лавках, боялись поднять глаза. Женское чутье подсказало Любе, и она деревянным голосом попросила, дескать, отвернись, будь человеком, нечего глаза пялить, и Степушка послушно уставился в угол, каменея весь, но странно и любопытно подмечая, как от долгого жара закурчавился в пазах мох и тонкие волоконца его, похожие на человечий волос, колыхаются от невидимых встречных токов. Дверь в баню с потягом закрылась, и, возбуждаясь, Степушка торопливо скинул одежды, наружные воротца закрепил на крюк и, прикрывшись ладонями насколько возможно, вошел в парильню. Половицы студили ноги, из щелей при каждом шаге прыскала осенняя застойная вода, крохотное оконце, выдавленное в прошлое мытье и заткнутое сейчас рукавом от фуфайки, не впускало осенний прозрачный день, и в дальних углах густел тот зимний мрак, когда входишь с керосинкой, а свет не в силах просочиться сквозь дегтярную темь, и тогда чудится, что там, на полке, кто-то таится, окаянный и властный распорядиться человечьей судьбой, кого прежде называли хозяином-баннушкой и норовили не гневить.
Словно бы многослойной омутной водой была залита сейчас баня, и там, где-то на самом дне, едва проглядывалось что-то белое, зыбкое и заманное. Воздух струился жаркий до густоты, а казался зябким, когда Степушка мягко подбирался к жене. Он впервые видел девушку столь откровенно обнаженной и беззащитной, и эта доверчивая открытость опьянила и оглушила его. Люба лежала на спине посреди полка, возвышенье, сбитое из плах, размывалось в темени, и казалось, что жена бесплотно, крылато колыхается в душном воздухе и достаточно едва ощутимого прикосновенья иль даже резкого вздоха, чтобы она недосягаемо вознеслась. Больно ушибаясь коленками о скамью, Степушка полез на полок, а Люба неслышно отодвинулась, и он вытянулся рядом, чувствуя, как дрожит ее тело. Сердце Степушкино вдруг распухло, едва умещаясь за ребрами, кровь заковала в висках, и безвольный озноб окатил каждую жилку ждущего тела. Было тесно на узкой столетие, руке не находилось места, и она невольно натыкалась на Любино тело, кажущееся странно холодным.
– Муж ты мой, – вдруг дрожаще шепнула жена и повернула голову. Степушка напрягся, стараясь подавить предательскую противную дрожь, и, приблизившись вплотную к Любиному лицу, понял, что она плачет.
– Ну что ты... вот тоже, чего плачешь-то? – бестолково домогался ответа, целовал соленые глаза и податливые губы, а мужская жадная ладонь уже беспамятно и торопливо вершила свое вековечное дело, зовуще жамкала скрипящие кочашки грудей.
– Боюсь я, – сказала и заплакала пуще. Но кто, какой тайный советник подсказал Степушке единственные в то время слова?
– И я боюсь, – сознался он вдруг, и это было откровением. Он случайно знал женщину лишь однажды, но она часто вспоминалась в минуты глухого одиночества с какой-то гнетущей тоской и отвращением. И всегда воображение рисовало мучнисто-серое лицо и сальные волосы распластанные на клетчатой подушке, и безгрудое плоское тело, словно бы деревянное, натуго опеленутое в грубую рубаху, которая чудилась ее шершавой и грязной кожей, а она отчего-то никак не хотела сбросить ее, как ни умолял, стараясь быть благородным, а втайне робея. После он что-то, кажется, неумело вытворял с той девкой, а ей не нравилось, и она капризничала и откровенно издевалась над его беспомощностью, а после он пьяно плакал, размазывая слезы, и умолял простить, и в этом опустошении уснул; а утром так тошно было ему очнуться в неприбранной комнатенке, пахнущей уборной и сыростью у белесого оконца, часто закрещенного хлипкими переплетами, и при грустном зимнем свете увидеть вдруг усталое женское лицо, страдальчески сморщенное в переносице, а после украдкой одеваться и убегать, чтобы после никогда более не переступить порог случайного свиданья.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.