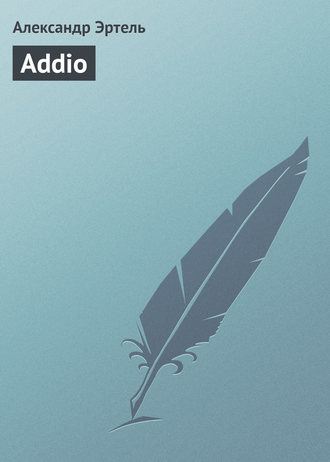 полная версия
полная версияAddio
…Я вижу луг, над которым только прошла грозовая туча и теперь ярко сияет солнце! Вдали грохочет гром… В траве блестит роса и, подобно червонцам, мелькают желтые одуванчики. Мне кажется, что луг дышит и цветы, окропленные дождем, радостно улыбаются. За лугом роща тесно обступила вершину. Стройные березы ослепительно сверкают своей яркой белизною и веселым глянцем кудревидных листьев своих. С этих листьев, подобно слезам, падают капли дождя. В роще поют неугомонные птицы, мелодично переливается иволга и кукует унылая кукушка. Все эти звуки ясно встают над лугом и замирают в отдалении. Около рощи серебрится река. Она недвижима. В ней задумчиво отразился камыш, и старый садовник Артемий опрокинулся там с своей вершей и с своей лодочкой, обросшей зеленым мохом. За рекой ветловый лесок переполняет окрестность суетливым грачиным шумом и беспрестанным треском ломающихся ветвей. А там большое село утопает в ракитах; слышны звонкие удары валька; весело белеет стройная сельская церковь… Узкая дорожка растворилась и вьется черной лентой из села в гору, а на горе зорко сторожит дали крутой курган, и зеленая рожь млеет в ленивой истоме. Около луга смачно чернеет поле. Там двоят под гречиху. Я хожу по мягкой пашне, высоко засучив штанишки, и свободно вдыхаю затхлый запах свежеразрытой земли и влажный аромат луговых трав. Я гляжу на блистающую окрестность, на лошадей, хлопотливо таскающих сохи, на мужиков, звонко покрикивающих: «Возле! Возле!», и мне делается как-то особенно хорошо и покойно.
Подхожу к Мосеичу. Мосеич – добродушный старик и вечно говорит со мною. Он допахивает полосу. Грачи вьются за ним и ковыряют носами землю; какие-то бойкие птички быстро мелькают у самых его ног, облепленных грязью. «Что, малец, благодать господь послал? – говорит мне Мосеич, останавливая пегую кобылу свою и очищая сверкающую палицу. – Эх, легка пахота-то!.. Гляди, земелька-то – малина!.. Вот ужо засеем гречишки – будем кашку есть. Ты любишь кашку? Как, поди, не любить… Будем, будем с кашкой!» – И он весело понукает кобылу и вонзает в рыхлую землю острие сошника. А я иду за ним и смотрю, как земля легко и однообразно разваливается под его ногами и проворные птички мелькают вдоль борозды, а синие грачи неуклюже роются носами… Полоса допахана. Мосеич садится на меже, достает из мешочка круто посоленный хлеб и, перекрестясь, начинает медленно и осторожно есть его. Я тоже ем. Хлеб мне кажется необыкновенно вкусным и Мосеич необыкновенно милым… Я тоже, подобно Мосеичу, стараюсь жевать медленно и серьезно и тщательно подбираю крошки, падающие на мои колени. Пегашка усердно щиплет влажную траву. «Вот погоди, ужо покос будет, приходи тогда, – говорит Мосеич, кончив свой завтрак, – ягода всякая будет…» – «А как ноне травы?» – тоном взрослого спрашиваю я, степенно утирая рукавом губы и набожно крестясь. «Ноне травы хорошие, – отвечает мне Мосеич, – ноне такие травы: копен тридцать как бы не стало. Ишь, какую сырость господь послал!.. Теперь она ботеет, поди, матушка!.. Будем с сенцом!» – «Вы сымали где, аль нет?» вопрошаю я. «Сымали есть которые – нас семь себров[3] на графской сняли. И-и, травы там!.. Мы когда об троице были – ворона схоронится, такие травы!.. Теперь, гляди, по колено выботела, матушка… Да едовая вся, способная, разнотравье!.. Сено-то мед медом…» – «Ну, а как насчет цены?» – «Цена, друг, не то чтобы махонькая: пять рублев за круг, да курицу чтоб предоставить… Цена настоящая!.. Ну и травы же… Бож-же, какие травы!..»
…А вот холмы, встающие непрерывной цепью… Дичь и глушь. Вечер. Заря угасает. В долине тускло светится Битюк, разливаясь тихими заводями. Камыш неподвижными купами смотрится в воду. В воздухе мрачная тишина. Едва заметная тропинка бежит у подножия холмов и ведет неведомо куда нашу усталую тройку. Кудрявый кустарник заполонил скаты. Колокольчик тревожно бьется под дугой и бессильно замирает. Тарантас ныряет по кочкам. «Где же мы, господи?» – тоскливо шепчет мать, и крестится, и таинственно произносит: «Живый в помощи вышнего…»
Вдруг лошади вздрагивают и настораживают уши: долгий и протяжный звук уныло будит тишину. Вдали послышался такой же отзыв. То за холмами завыли волки. Неодолимый ужас охватывает меня. Я тесно прижимаюсь к матери, а она торжественно произносит чудодейственный псалом бледнеющими устами и в ужасе спрашивает равнодушного Илью: «Где же мы? Где же мы? Куда девалась Боровая?»
Мы заблудили. Но вот холмы раздвигаются и, вместо кустарника, мрачный сосновый лес подымает свои вершины. Сквозь темные сосны краснеют крыши, и суровым металлическим блеском блестит пруд. Вода однообразно шумит, низвергаясь с колес мельницы!.. Это и есть Боровая! Илья бойко свистнул и натянул вожжи. Колокольчик зазвенел порывисто и звонко. Где-то за холмом раскатилось и мечтательно угасло в отдаленье тонкое эхо… Прогремел под тарантасом мостик, сколоченный на живую нитку… Отозвался недовольным гулом сонный бор… Приехали. Бабушка сжимает меня в теплых своих объятиях и ведет в комнаты. Самовар бушует. Яйца и масло аппетитно выглядывают с тарелок. Дедушка мельник приветливо улыбается и целует меня в лоб холодными устами…
Ночь. Сижу на крыльце, и суеверный ужас леденит мои жилы. Темные очертания холмов, обступивших долину, резко выделяются на бледном небе. Неподвижный бор сурово хмурится. Вдали дико завывают волки, на мельнице неустанно гремит жернов, и вода переполняет лес таинственным шумом. Под мельницей, там, где неподвижным озером зияет омут и оцепеневшие ивы дружно столпились и поникли в задумчивой дремоте, печально стонет выпь. Мне страшно, но сердце мое сладостно замирает… А бабушка поджидает меня у моей постели и долго будет говорить со мной, когда я лягу, и до подробностей расскажет мне про те времена, когда была крепостною. Расскажет о помещиках, лихих и добрых, о непосильных крестьянских работах, о Пугачевщине, которую переживала ее мать… Поведает мне старые крестьянские сказки… и благословит и поцелует меня, а я долго буду лежать в темной комнате с открытыми глазами и, прислушиваясь к завыванию волков, буду вспоминать бабушкины рассказы.
…Синее небо молчаливо опрокинулось над степью. Звезды сияют дрожащим блеском и любовно смотрят на землю. Свежий аромат травы насыщает воздух. Я в таборе. Среди куреней весело потрескивает огонь, и косари плотной толпою дожидаются каши. За табором виден вольно распущенный табун, спокойно пожирающий отаву. В ночном небе гордо выделяются островерхие стога. Я приникнул к широкой фигуре друга моего, конюха Федьки, и чутко вслушиваюсь в разговоры. Идет толк об урожае, о ценах на покос, о достоинстве травы, о погоде… О том, что «разнотравье» лучше «тимошки» и что не дай бог, под мочливый год, сеять рожь с бороною. Я все слушаю. Мне до осязательности становятся ясны и преимущества ранней мётки пара, ибо Архип Гомозков всегда мечет рано свой пар (который снимает на стороне) и всегда у него родится, и непригодность мочки конопли весною, потому что еще у всех на памяти, как Аким Павликов погадил таким образом целую пропасть «моченцу», – и неудобство мягкой пашни для проса, – у Андрея Дорошева вырос на такой пашне страшнейший сор.
Но вот поспела каша. Аппетитный пар колышется над котлом. Мозолистые руки начисто умываются. К темному востоку несутся наивные молитвы; громадные ложки приступают к работе. Еда совершается медлительно и достойно. После ужина речи оживают. Слышатся смех и шутки, сладковатый запах махорки стоит в воздухе. Немного погодя затягиваются песни. «Ночки темные» звенят над степью долгим и протяжным звуком. Федька запевает. Он молодцевато сдвинул набекрень шапку и нахмурил брови. Сильный голос его как бы тоскует и переполнен волнением. А я сижу и чувствую, как при высоких нотах песни сердце мое сладко замирает и какая-то холодная дрожь мелким ознобом пробегает по спине… И думается мне, что хороши эти мужицкие песни и что ничего нет в мире привольней степи русской, этого звездного неба, мечтательно поникшего над степью…
А когда в небе загораются Стожары, мы садимся на коней и сгоняем табун. Федька зычно свистит и молодецким окриком будит степную тишь. Кони рвутся под нами и грызут удила. Какое-то особое наслаждение доставляется мне, когда я плотно прижимаю ноги к горячим бокам своего иноходца; он скачет и в гневе трепещет всем телом, высоко подымая голову. За моей спиной точно крылья веют; славная бодрость перехватывает мое дыхание. Мне во что бы то ни стало хочется простереть руки и, в порыве счастья, обнять весь мир… Табун сдвигается в кучу. Слышны ржанье, фырканье, взвизги, звонкий топот копыт… Вдали смутно светлеет пруд, и одинокий хуторский огонек мелькает в темноте. Недалеко же от нас чернеют курени другого табора. Костер в нем едва тлеет, но при нашем приближении около куреней дружно раздается девичья песня и мерный топот трепака бойко держит такт. Табун разбредается по копнам. Федька подзывает меня и значительно сообщает свою тайну… О, как гордо подымаю я голову, и какой благодарностью переполняется мое сердце. Но я не изъявляю свои чувства, – я знаю, как смотрят на эти изъявления мои герои: индейцы в романах Купера и мужики, подобные Федьке, – я только с важностью подтягиваю повода и небрежно роняю: «Ладно!». Мы подъезжаем к отдаленному стогу. Федька слезает с седла; я беру за повода лошадь его и, чутко приподнимаясь в стременах, зорким взглядом пронзаю степь. Но в таборе по-прежнему звенит плясовая песня и подкованные сапоги все отбивают разухабистый трепак. А за стогом слышен мне шепот, прерываемый поцелуями, и сдержанный смех, и ругань, полная наивной ласки… Долго спустя я слышу веселый Федькин голос. «Ну-ко-сь, Никола, смотри невесту-то мою!» – говорит он. Серебристый смех прерывает его. «Молчи, дьявол!..» – с нежным упреком отзывается Федька. Я слезаю неловко, путаясь в стременах, я чувствую, как лицо мое пламенеет. «Гляди сюда!..» зовет меня Федька и близко наклоняет к своей возлюбленной. Я ощущаю горячее дыхание и вижу темный блеск глаз, который кажется мне насмешливым. Губы мои застенчиво лепечут что-то. Девушка неудержимо хохочет, зажимая рот рукой. Я сажусь на мягкое сено и глубоко вздыхаю: нет меры моему счастью и моему пугливому довольству. А Федька говорит с своей невестой, и называет ее «Дашкой», и беззастенчиво обнимает ее. Впрочем, и она привыкает к моему присутствию. Она толкует о том, сколько в их дворе ржи в посеве, и сколько ярового, и как много придется жать и вязать нынешним летом, но зато осень будет весела и по самый покров будут вечерушки. Она рассказывает, как долго и настойчиво «отливали» у них капусту весною и что у многих все-таки не выдержала она и посохла: весна была сухая и ветреная. Она говорит о том, как «батюшка» перебился прошлой зимой и не продавал овец, а у них три ярки пущены на «долгую», и невестка Арина будет красить шерсть… А Стожары подымаются все выше и выше, и на востоке тускло занимается заря. Свежо. Глаза мои слипаются; голова бессильно поникает к душистому сену; холодные повода выскользают из рук… «Едем, Николушка, пора!» – будит меня Федька. Я с усилием открываю глаза и вижу возбужденное Федькино лицо, низко наклоненное надо мною. Дашка исчезла. Заря пламенеет узкой полосою. В росистой траве трещит коростель. Прохладный воздух напоен влагою. Алое сиянье преодолевает тени и кротко озаряет степь. Федька гарцует на коне и гремит на всю степь: «Го-го-го!..» Табун дружно срывается с места. Земля гулко дрожит под копытами коней. Крепкий ветер развевает их гривы. Синяя даль встает бесконечным туманом и медлительно курится…
О, какой свежестью и каким невозмутимым миром повеяло на меня. Теперь бессильны скорби, так безжалостно терзавшие меня еще недавно. Надолго ли? Не знаю. Но я равнодушно смотрю на ворох газет, беспорядочно разбросанных по столу, на все эти ноющие корреспонденции из Архангельска и Казани, Чернигова и Тамбова и иных городов и весей обширной земли русской, и все это кажется мне теперь бумагой, не более… одной только бумагой. «Не погибнет Русь до конца, – чуть не вслух восклицаю я, – и почтеннейший дух времени неукоснительно слопает дулю!»
Я лег спать и долго лежал с открытыми глазами. Долго старое, доброе время (о, какое доброе!) вставало предо мною рядом пленительных картин, и непрерывно крепли нити, связывающие меня с жизнью. Я чувствовал, как напрягались во мне какие-то силы, дотоле мне неведомые, и усталая моя мысль бодро и смело оживала. Я вспомнил мои думы на кургане… И до того стал мне противен прекрасный чуждый край с ослепительным его солнцем и голубым морем, и таким жестоким холодом повеяло на меня от античных перспектив всяческого рода, что мне стало стыдно, и явные признаки оскомины беспокойно начали осаждать меня… А когда я заснул, то будто со смехом подошел к окну, куда неотступно глядела подозрительная ночь, и посмотрел в темноту дерзким взглядом. Там призраки трусливо убегали, потрясая крыльями, и безвозвратно исчезали во мраке… Там бессильно замирали звуки, переполненные скорбью И тоскою… И за далью непогоды кроткий образ родины возник предо мной. Он любовно простирал мне объятья, звал меня печальным зовом и непобедимым обаяньем манил к себе. А вокруг загоралась заря пламенеющим светом, и протяжная мужицкая песня звенела без конца…
На дворе ревела буря.
12 марта. Вьюга. Мороз.Зима окончательно возвратилась. Снег бьет в окна и крутится белыми волнами. В трубе завывает ветер. Вкруг дома рыхлыми буграми встают сугробы. Но на душе тихо и как-то странно веселит молочный свет, заливающий комнаты. Все газеты забросил я в дальний ящик и стараюсь не вспоминать их длинные столбцы, изукрашенные всякой мерзостью. Когда же вспоминаю, то ощущаю боль как от прикосновения к старой, не вполне еще зажившей ране.
Семен пришел ко мне и сообщил, что солдатик, идущий на побывку, просится ночевать. Я, конечно, позволил.
Быстро смеркается. Вьюга гудит не уставая. Тетка задумчиво берет аккорды… Скука незаметно подкрадывается и тягучей сетью охватывает комнаты. Семена снова нет в передней. Я одеваюсь и пробираюсь в людскую. Там по-прежнему синей тучей ходит дым и мои домочадцы окружают стол. Лица их изображают жадное внимание. В почетном углу сидит солдатик. Синий мундир небрежно накинут на его плечи, рыжие усы значительно топорщатся, из коротенькой трубочки вьется тонкая струйка дыма. На столе лежит номер «Руси», захватанный пальцами.
При моем входе происходит легкое волнение. «Русь» исчезает. Солдатик вытягивается и почтительно приветствует меня «благородием».
– Откуда ты? – спрашиваю я.
– Из Санктпетербурга, ваше благородие!
– Там и служил?
– Точно так, ваше благородие.
– На побывку идешь?
– Точно так, ваше благородие.
– Куда же?
– В Тамлык, ваше благородие.
– В каком полку служил?
– В жандармском дивизионе.
Я уговариваю всех садиться и сажусь сам. Мне почему-то необыкновенно хочется говорить с ними и узнать откровенные их помыслы. Но вместе с тем мне скучно и неловко, и явственно вижу я, что домочадцы мои изображают в своих лицах тонкую таинственность. За что? – Я ли не любил их, я ли не болел их болезнями и не скорбел бездольем, отравляющим их существование… В чем моя вина? В том ли, что на мне сюртук, а на них посконная рубаха, и не верю я в батюшку Царь-град, и не молюсь матушке великой пятнице? Но ведь я знаю, что я нужен им, что без меня, без моих познаний сеть бестолковейших недоразумений готова опутать их до конца… А между тем эти недоразумения любы им, и явным недоверием встречают они мои попытки поговорить с ними по душе. Прежде я легко относился к этому, но после той передряги, которую довелось мне испытать прошлой ночью, во мне ожила и настойчиво заговорила почва. В фигурах домочадцев, знакомых мне до приторности, засквозило теперь какое-то иное выраженье, и чем-то глубоко близким повеяло на меня от них… А они пожимались, и переглядывались, и в смущении покряхтывали в руку. Сердце мое болело сосущей болью… Но вместе с тем мне мучительно не хотелось отступить. Я с преувеличенной развязностью вынул и закурил папиросу и, как бы не замечая взглядов, с недоумением обращенных на меня, послал Семена за водкой…
13 марта. День солнечный. Небо ясно. Тепло.Сегодня встал поздно. Голова трещит. Во рту чувствуется отвратительная горечь. Грудь болит нестерпимо… Блеск солнца кажется беспощадным.
Что такое свершилось вчера? Что-то ужасно глупое и смешное. Да, я припоминаю: я был пьян и перепоил своих домочадцев. Я помню какой-то туман в глазах, помню жгучее ощущение вонючей водки, помню какие-то рожи и бестолковые речи, крикливые до нелепости. Рожи вертелись предо мной и кривлялись странно; чьи-то толстые губы целовали меня мокрым поцелуем; усы жандарма грозно топорщились в разные стороны, и все это то исчезало в какой-то туманной сутолоке, то снова выдвигалось и галдело, широко раскрывая рты, и назойливо лезло в глаза… Иногда разговоры моих собеседников доходили до меня отчетливо и ясно, и тогда я их внимательно слушал; иногда же сливались, в какой-то смутный гул и протяжным стоном утруждали мои уши. Тогда я, в свою очередь, осложнял сумятицу и надрывался в криках. Но мне казалось, что это не я кричу, а кто-то другой, оживший во мне, и я удивлялся отчаянной наивности этого другого и тому, как он жестоко размахивает руками. У меня же нестерпимо кружилась голова и подымалось какое-то буйное желание разбить граненый стаканчик, наполненный водкою.
– А с какой с такой стати вы, господин, с нами, мужиками, водку пьете? – задает мне вопрос красная рожа с усами, и страшно шевелит этими усами, и низко наклоняется надо мною. Я чувствую, как внезапно пронизывает меня холодный трепет и лицо мое бледнеет. Я искательно повожу глазами и улыбаюсь красной роже, стараясь смягчить неподвижный блеск ее прозорливых очей. Мои коснеющие губы лепечут что-то о «дне святого ангела», о хуторской скуке, о «православном» мужичке, которого я, как оказывается, особенно уважаю за верность и преданность…
– То-то, – изрекает рожа и великодушно наполняет мой стакан, – потому, мы примечаем, ежели бунт… Мы имеем предписание…
Рожа, видимо, важничает и, видимо, врет. Я слышу отрывочный рассказ о некоторых подвигах рожи и превосходно уловляю фантастический элемент этих подвигов. Но что-то непреодолимое по своей оцепенелости смиряет мою критику, и я усердно поддакиваю роже и даже произношу одобрительные замечания. Это окончательно умиротворяет рожу. Затем все застилается туманом и подымается ужасный шум. Только спустя какое-то безобразно длинное время снова слова раздаются ясно и четко. Это говорю я. Я горячо доказываю, что никакой прирезки не будет и что ожидать ее нет резона. Я трогательно защищаю священные права собственности. Я упоминаю циркуляр г. Макова{3} обзываю домочадцев своих дураками и с неведомо откуда взявшейся злобой насмехаюсь над их глупой верой. Но целый поток возражений оглушает меня. Я вижу, как раскрасневшийся Семен до невероятности открыл рот свой и, гневно скосив кроткие свои глаза, кричит на меня неподобными словами. Михайло к самому носу моему сует здоровенные свои кулаки. Яков ожесточенно сообщает извещение какого-то отца Мисаила Косоглазого в Одессе касательно «прирезки». Кухарка Анна пронзительно визжит и рассказывает про странницу и про то, как перед «волей» тоже говорили в народе, и по тому сбылось. Откуда-то взявшийся номер «Руси» снова появляется на столе, и кто-то гнусливо читает в нем ничего не выражающий отрывок из передовой статьи. Тщетно я возвышаю голос и стараюсь перекричать неописуемый гвалт: мне с торжеством указывают на газету и победоносно тычут в нее пальцами. Я слышу голос Михайлы.
– Небось, не надуешь! – кричит он, размахивая кулаками и уничтожая меня звероподобным взглядом. – Мужик-то, брат, сер, а ум-то у него не черт съел… Вот она, газетина-то!.. Мы тоже понимаем… Ноне тоже не хвалят вашего брата!
– Прямое дело! – возглашает Яков. – Газетина господская, а по ней прямо выходит – прирезка. А уж что баре скрывают – это верно.
Я пытаюсь возражать, но меня не слушают.
– Спокон веков земля вольная, – кричит Семен, давно уже охрипши с натуги, – и деды и прадеды…
– Быть переделу! Быть переделу!.. Провалиться вам всем – быть переделу!.. – неудержимо стрекочет Анна и в каком-то задорном раздражении толкает Якова в спину, как будто от него получая возражения.
Я поникаю головою и бесцельно смотрю, как на столе пролитая водка стоит лужами и беспорядочно разбросанные крошки хлеба мокнут в этих лужах.
– Теперича каким же таким манером вы, господин, оспариваете насупротив газет и насупротив указа, например? – раздается сиплый вопрос. Я поднимаю голову и снова встречаю проникновенный взор, рожи. Она самодовольно крутит усы и снова важничает.
– Каким же таким манером, ась?
– Как же так? – возражаю я в изумлении.
– А вот точно так мы вас и спрашиваем: каким теперича манером вы насупротив указа?.. И как мы имеем предписание… – И рожа еще ближе наклоняется ко мне и еще проникновенней поводит взорами.
Я теряюсь. Я вздыхаю беспомощно и устремляю взгляд свой горе. В голове моей воцаряется полнейший хаос. Действительность кажется мне бредом. Я уже ничего не понимаю. Точно сквозь сон долетают до меня многозначительные речи жандарма, и лица моих домочадцев, в гробовом молчании внимающих этим речам, тонут в зыбком тумане. По речам выходят положительные чудеса. Солдатик повествует, что высшее начальство в Санктпетербурге окончательно определило насчет земли и что чуть ли не с весны наступит прирезка. Это солдатик слышал своими ушами. И про указ слышал. Им даже, как и всем прочим, читали его по казармам. Точно, там прописано про землю и про передел и что мужички ждут передела. А так как они передела ожидают, то впоследствии времени будет им нарезка. И еще насчет бунта прописано, ловить чтобы которых и чтобы ежели против передела – доставлять по начальству. Затем говорил солдатик, что еще такой указ вышел: не работать по господам, а ежели жать, то не меньше как за сорок рублей. Впрочем, этого указа он не читал в Санктпетербурге, потому насчет цены только и прописано, что степным мужикам, а по прочим губерниям решения никакого нет.
Дальше я уж ничего не помню. Было какое-то общее целование и бесшабашнейшее изъявление чувств. Затем мрак…
Ох, как болит голова, и какая жгучая жажда одолевает меня. И зачем сверкает так ярко это солнце? Ручьи журчат, воробьи чирикают, небо синеет.
Тетка с молчаливым упреком поглядела на меня и более продолжительно, чем когда-либо, терзала свое пианино. Нервы мои тоскливо ныли, сердце сжималось мучительно…
Скверная штука это похмелье!
18 марта. Солнце. Ростопель.Все эти дни я не знал, куда мне деваться. Непрестанный солнечный блеск как-то странно раздражает меня. Какие-то беспокойные порывы приливают непрерывными волнами. Скука сменяется тоскою и снова скукою. Я опять перечитал газеты. На них уже налегла пыль толстым слоем, и я неоднократно чихнул, перебирая ящик…
Нет спора – все скверно… Правда, есть рецепты, но от них пахнет несомненным мошенничеством. В лекарство пытаются влить отраву и в качестве патентованного средства всучить эту отраву ошалевшей России. Но странно: сердце мое точно оцепенело в холоде, и ему недоступны гражданские скорби. Предо мной, как в калейдоскопе, проходит ряд явлений, разрисованных кровью, изукрашенных глупостью и подлостью, а я равнодушно смотрю в стеклышко и с зевотой ожидаю скучного конца.
Не это ли англичане зовут сплином? Тоска… Теперь уж и чужбина не манит меня. А между тем чувствую – необходима она: грудь болит, нервы томительно тупеют, кашель бьет отчаянно…
А не замечали ли вы, что так называемая интеллигенция наша с самых времен Чулкатурина{4} преимущественно вымирает от чахотки? Впрочем, entre nous, entre nous[4], я вовсе не думаю умереть от чахотки, – я умру от скуки…
Сегодня тетушка разразилась трагической тирадой и в конце концов истерически разрыдалась.
– Душно! – сдерживая вопли, произнесла она в пафосе, – без счастья и воли жизнь как в могиле темна… Буря бы грянула, что ли?..
– Чаша с краями ровна!.. – согласился я, откладывая газеты, и пошел проверить некоторые мои подозрения.
Увы! – эти подозрения подтвердились: графинчик наполовину стоял опорожненный, а когда я поцеловал тетушку, от нее пахнуло водкой. Это нехорошо, – прежде она не могла пить. Что если мой пример?.. Нет, не хочу думать.
Вечером долго погорала заря, и степь, истекая звонкими ручейками, пламенела в кроткой задумчивости. Тетушка спала, обессиленная хмелем. А в полночь знакомый напев пробудил меня, тетушка пела:
О, верь, мы не надолгоРасстанемся с тобой:Тоска угасит пламяМоей души больной!..О, север, север!..22 марта. Тепло и ясно. С утра легкий мороз.Эти дни ездил по знакомым. Был в деревнях, заезжал в села, проведывал хутора… Странно, в воздухе носится что-то тревожное, и какие-то непонятные ожидания упорно бродят в народе. Кабаки торгуют плохо. Улицы тихи. Мужики многозначительны и необычно серьезны. При появлении сюртука соблюдается таинственность… Точь-в-точь как мои домочадцы.









