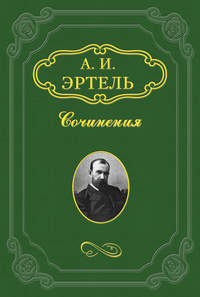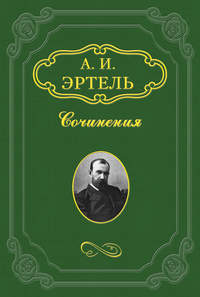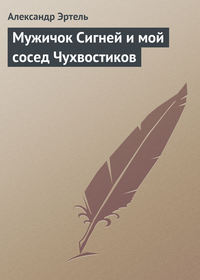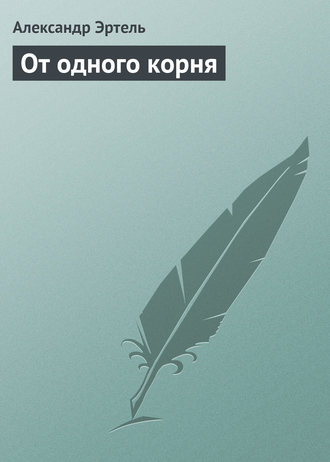 полная версия
полная версияОт одного корня
– Одно вот сомущает меня, Миколай Василич, грамоте я не обучен…
– Я и то удивляюсь тебе, Василии Мироныч, как это ты не забудешь своих счетов, не перепутаешь!..
– Это что говорить, – я памятлив… Бога гневить нечего… Только все-таки сподручней бы… Особливо с маслобойкой, – дело мелкое: кому фунт, кому полтора… Как тут запомнить!.. А в эфтой мелочи, в фунтах-то, самый барыш и есть… Аль опять расчет… Возьмем хоть свинью, – без расчета с ей никак невозможно… За много куплена, сколько проела, почем пуд легла, как тут без грамоты-то сведешь?.. Просто иной раз в тоску вдашься… И на родителей-то, признаться, попеняешь: чтоб хоть к дьячку, все бы блажей… Не в пример способней ежели письменному… Пытал я еще с молодых годов, чтоб самому обучиться… ну, цыхярь одолел, да на том и стал… Где ж!.. Ученье хорошо смолоду… Вот теперь сынишку в выучку отдал…
– Куда?
– Аль ты не слыхал? Ведь мы ученицу наняли…
Это было для меня новостью. Я знал, что Василий Мироныч чрез посредство своего знакомца, волостного писаря, хлопотал одно время в земстве об открытии школы в Березовке, но хлопоты эти успехом не увенчались, несмотря на то, что березовское сельское общество соглашалось, не только дать помещение для школы, но даже платить часть жалованья учителю. О причинах этого неуспеха толковали разно. Из компетентных источников мне не удалось узнать об них.
– Где же вы разыскали эту учительницу? Земство, что ль, прислало?
– Какое те земство – пропадай оно совсем с потрохом, – свою наняли!..
– Как же это так?
– Да как бы тебе сказать… с неделю, что ль… пожалуй, с неделю. Сижу я у Гераськи в избе, уж огонь засветили, глядь, в оконницу стучит кто-й-то… Ну, окликнули… просятся ночевать… Чьи будете, спрашиваем… «Тамлыцкие…» Куда едете? «С Воронежа, с богомолья, барыня, ахфицерша…» Пустили… Вошла она в избу, разделась… такая разбитная, хоть куда… С нами, это, сразу разговор завела… Про хозяйство, хлеба… Одно слово бой. Не из самых так чтоб из молодых, а ничего… Отец, говорит, в Тамлыке трахтер содержит, вдовый… И она вдова: ишь, за каким-то ахфицером, что ль, была… Гутарим, это, мы, а робятенки посередь избы толкутся… С эстого и речь повелась… «Что вы, говорит, робят грамоте не обучаете?» Как же их учить-то, мол? Сами не горазды, а училище – десять верст почитай… Самим чтоб завесть – невмоготу… Начальство тоже в резонт не принимает… А мы – всей душой… Тоже понимаем… темный человек, к примеру, аль письмённый!.. Слово за слово… она и скажи: «Есть мое такое желанье, чтоб, значит, робят обучать, хотите ваших буду?..» А тут на огонек-то еще кой-кто из суседей подошел… Она, это, нам всем объявила… Мы было, признаться, и усумнились: не насмех ли, мол?.. Ну нет, – взаправду… Как не хотеть, говорим, только первое дело – невмоготу… заломит, думаем… А она на это нам: «Ну, в эфтом, говорит, мы с вами, старички, сойдемся, коли избу мне отведете, чтоб особняк значит, ну, харчи еще, – вот и ладно… а обучу как след, – с отца рупь…» Чего лучше?.. Только вот барыня-то ты, говорим, може в харчах не угодим как… Смеется. И так это она нас улестла, так улестла… Враз мы с ей и покончили: рупь с головы, хватера и харчи… Думаем, чего лучше? Клад в руки дается… Наутро мы ей и хватеру сготовили.
– Где ж вы ей особняк нашли?
– А Степаниды солдатки… Изба-то у ней хоша невеличка, зато чистая… да и топится по-белому… А самое Степаниду к Трофиму Кузькину… Чего ей? – Старушка… абы на палатях место было, да хлебово какое ни на есть, тюрьки там аль еще чего… А к ученице сестра Трофимова, Алена, перебралась… Видал? – девка-то… Уж она невеста, поди…
– Видел как-то на жнитве…
– Ну вот!.. Она ей и печку истопит и самовар согреет… Девка промзительная… И ее стала грамоте учить! – засмеялся Василий Мироныч.
– Это вы хорошо сделали, что учительницу наняли… Еще деды наши говаривали: ученье – свет, неученье – тьма…
– Истинно – тьма… Я говорю, свинью возьмем!.. Что ты с ей без грамоты-то поделаешь?.. Аль опять в долг товар распустить… Никак эфтого темному человеку учесть невозможно, а самый тут в эфтом учете и барыш… Да что свинья!.. Куда ни кинь, везде письменному способнее… Условие там писать аль к мировому… Уж в торговом деле никак без эфтого невозможно… Аль опять насчет цен… Вот я как-то, по осени, у Чумакова был, так он те словно по писанному: в Москве цены стоят вольготные, говорит: туша по том-то, мука по том… А в Ростове дела замялись, с овсом без спросу, пшеница ни по чем… Просто диву дашься!.. А все – грамота… Вот мальчонка-то обучится и – подсоба… А там пошпынял его маненько по домашности, да в город, в лавку… Пускай к купецкому порядку приобыкнет… А уж в хрестьянстве – только грех один… Конешно, уж мое дело не молодое, сохи не бросишь, сызмалетства с ей… А что самое подходящее по нонешним временам – торговое дело… Ты сам рассуди: в старину хрестьянство аль ноне!.. В старину-то земли девать не знали куда… Лошадей косяками водили… скотины тьма-тьмущая… А ноне ни тебе земли, ни тебе лугов аль лесу… Одно слово – теснота… Какая уж в хрестьянстве жисть, – склыка одна… И ты посмотри: коли человек тверезый, обстоятельный, – уж он тебе сичас круг заводит… Аль рушку, аль свиней почнет кормить, овец накупит… А не то так посевом займется: у мужиков сымает, у купцов… Аль еще что ни на есть… абы от мира подальше… Я тебе говорю: один грех – этот мир… Как ни то: поналечь ежели, спить ведра два, тяготу какую ни на есть наложить, – это так, эфто они могут, старички-то поштенные, миряне-то эфти… а коли ежели заступа какая нужна – к примеру, кто изобидел тебя, купец ли, помешшик, аль свой брат мужик, мир-то и не при чем… ступай к мировому, либо в волость… Одна тягота да грех, а чтоб заступы… никакой… окромя с тебя же сопьют…
Э-э, Миколай Василич, – спохватился Василий Мироныч, взглянув в окно, за которым уж густели вечерние тени, – загутарился я с тобой!.. А ведь приехал-то за делом!.. Почем у те земля-то под яровое пойдет?.. По-летошнему, аль уступишь?.. Запиши-ка мне десятин пяток… Да полтинничек-то скинь… пра! Я ведь оброшник-то твой верный…
Я записал Василию Миронычу пять десятин ярового, причем скинул ему полтинничек, потому что «оброшником» он действительно был верным, и, несмотря на отсутствие всяких письменных условий, ни разу не просрочил, ни разу, что называется, не объегорил меня. Впрочем, я где-то уж сказал, что и крестьяне величали его «мужиком справедливым»…
Кажется, уже в начале декабря начались морозы. Грязь на дорогах превратилась в безобразные комья, твердостью равные железу. Ветер, до тех пор постоянно дувший с юго-запада, с «гнилой стороны», переменился и подул с севера, с Москвы. Тучи все по-прежнему тянулись над печальными полями, но они уж были не синеватые, дождевые, а серые с молочно-белыми окраинами. Мелководные пруды и речки начинали замерзать; особенно замерзали те, которые лежали в крутых или поросших лесом берегах, – в затишье. Целые стада лошадей, коров и овец появились на замерших озимях, разнообразя мертвенно-унылый вид окрестностей.
Зима все еще не приходила. Случалось иногда, что тусклое небо еще более потускнеет, еще гуще и плотнее надвинутся мрачные тучи, и снег мелкими, твердыми, как кристалл, звездочками засеет над полями. Но ветер в это время как нарочно превратится в бурю и с какой-то упрямой свирепостью погонит некстати расщедрившиеся тучи в неведомую даль, и снега снова как не было… Разве в глубоко проезженных дорожных колеях останется он, и тогда дороги кажутся какими-то траурными каймами на темно-сером фоне неоглядных полей.
Упорное постоянство этих щемящих осенних картин и вечное одиночество в конце концов начали как-то странно действовать на меня. Мысль, измученная тоскливым однообразием направления, в котором ей приходилось работать, словно замерла, заснула… Ничего не хотелось, ничто не волновало, не тревожило, ни во что не верилось… Чувствовалась только тупая, одуряющая тоска, которая казалась самым нормальным состоянием духа. Было еще какое-то безотчетное, инстинктивное стремление к физическому покою, и при этом страшная, непобедимая лень. Если уж ляжешь, то лежишь с утра до ночи, усядешься спокойно – сидишь целые часы.
Я сказал, что чувствовалась тупая тоска; да, именно тупая, без отчаяния, без вздохов, без порывистых восклицаний и проклятий. Собственно даже не думалось, что вот, мол, тоска! а только ощущалось. Формулировать это ощущение, выразить его мысль отказывалась… Повторяю она словно заснула. Впрочем, было, если хотите, какое-то подобие мышления, пародия на него. Взглянешь, например, на потолок – ползет муха; ну, думаешь, вон ползет… «Куда это она?… Ишь, ведь это она к печке пробирается, к теплу…» Или обратишь внимание на ноги: «Гм… один сапог блестит больше другого… С чего бы это?.. Должно быть, Семен или заленился, или устал… вон, ишь какое матовое пятно-то около носка…» А то глянешь в окно: на крыше амбара сидит растрепанная галка и бестолково трепыхается крыльями. «Вон, – подумаешь, – крыльями машет… ишь, какая взъерошенная…» И на этом успокоишься. Но и это нехитрое упражнение обыкновенно скоро надоедало мне, и тогда я закрывал глаза и всецело погружался в бессознательное, полудремотное состояние, от чая до обеда, от обеда до ужина…
В одно утро я проснулся раньше обыкновенного. В окна бил яркий свет, виднелось чистое голубое небо. На самоваре, шумливо бурлившем у печки, прихотливо переливались ослепительно сверкающие блики. Чувство невыразимой, почти восторженной радости обняло меня. Какая-то удивительно приятная свежесть волной пробежала по всему организму. Все во мне сразу переменилось. Не говоря уже о нервах, вдруг получивших какую-то, отчасти даже странную, восприимчивость, не говоря о мысли, которая вмиг отрешилась от своей спячки и заработала с давно небывалой энергией, – самое тело, до тех пор дряблое и бессильное, вдруг прониклось неодолимой потребностью к движению, стало упругим и сильным.
– Или снег? – закричал я весело, вскакивая с постели, и Семен весело отозвался:
– Подвалил путек, слава те осподи!.. Близy четверти навалило…
Действительно «слава те осподи!..»
– Когда шел-то?
– Почитай что с полночи… Уж на рассвете перестал.
– Стало быть, пороша есть?
– Надо быть… Как не быть пороше?.. Аль на охоту хотите?
– Чего же сидеть-то? Скажи Михайле, чтоб Орлику овса засыпал, да Копчику.
– Пообедамши поедете?
– Ты скажи Анне, чтоб она наскоро чего-нибудь приготовила. Оттепели-то нет?
– Нет, нету. Морозит.
Через час, закусивши на скорую руку, мы с Михайлой выезжаем на охоту с борзыми. У меня было их только две, но зато, по отзывам знатоков, обе замечательные. Одна, Отрада, – грациознейшее животное, с большими, черными, матовыми глазами и блестящим белым цветом шерсти, длинная, поджарая, на тонких упругих ногах. Другая, Карай, – широкогрудый, вечно угрюмый кобель из породы псовых, с волнистой, довольно длинной седой шерстью и прямой как стрела спиною. Обе собаки обладали просто изумительной резвостью и силою бега. К сожалению, я должен прибавить, что вместе с этим Отрада была страшно труслива и не переносила встречи с волком или даже с лихими дворняжками; Карай же хотя и выказывал отчаянную храбрость в подобных случаях, но зато питал непреоборимую страсть к истреблению кур и яиц… Что делать? Видно, совершенства не ищи в этом мире.
У меня вырвалось невольное восклицание, когда я сел верхом и оглянул знакомые окрестности… Я не узнал их. Вместо вчерашнего серенького, туманного колорита какое-то торжественное сверкание облекало их. Сверкали солнечные лучи, сверкал снег, отражая эти лучи, сверкало чистое, безоблачное небо. Казалось, самый воздух, холодный, но чудно прозрачный, проникнут был этим сверканием… Правда, этот сплошной блеск чрезвычайно скоро утомлял глаза. Им становилось больно даже от одного пристального взгляда на ослепительно белую пустыню, с убийственной ровностью раскинутую на огромное, подавляющее пространство. Но зато там и сям, на голубоватом горизонте, замыкавшем эту пустыню, показались предметы, на которых можно было отдохнуть утомленному зрению. Дали как бы раздвинулись. Завиднелись скрытые до сих пор колокольни окрестных сел со своими ярко позолоченными крестами; показались далекие купеческие хутора со своими высокими ригами и скирдами хлеба; засинелись Малюхинские кусты, отстоящие от хутора не ближе десяти верст; черною, едва заметною нитью протянулся по южному горизонту казенный лес, до которого считалось еще дальше, чем до Малюхинских кустов; словно из земли выросла Березовка со своими гумнами, с ветлами, опушенными снегом, с черными трубами, резко выдававшимися на белых крышах…
Вся снеговая равнина, все эти колокольни с огоньками, сверкающими на крестах, все эти хутора, кусты, лес, Березовка – все словно было погружено в глубокий, невозмутимый сон. Ни одного звука не тревожило торжественной тишины… Блеск и тишь – вот картина. Не хотелось громко выговорить слова, вскрикнуть, зашуметь, – одним словом, каким бы то ни было образом нарушить эту тишину, пробудить ее. Чувствовалось, что всякий звук – если он не принадлежит какому-нибудь небожителю – был бы оскорблением чему-то дорогому, близкому, какой-то святыне… Природа казалась храмом, тишина благоговейной тишиной этого храма, тишиной, в которой уместны лишь кроткий шепот молитвы да стройное, умилительно-прекрасное пение клира, тишиной строгой и вместе величавой…
По крайней мере, первое мое впечатление было именно таково. Конечно, через полчаса, через час оно сгладилось, стушевалось, оставив по себе очень смутный след…
Напутствуемые благими пожеланиями Семена, мы тронулись. Лошади, застоявшиеся на конюшне, ретиво рвались на поводах и жадно вдыхали широко раскрывавшимися ноздрями морозный воздух. Собаки, как шальные, бешено скакали вокруг лошадей, тучами взрывая снег. Даже Карай бросил на этот раз свою обычную угрюмость. Кухарка Анна, особа нрава меланхолического, вышедши провожать нас, оглянула из-под руки поле, сладко прищурилась и растроганным голосом соблаговолила вымолвить: «Эка, господи, благодать-то!», после чего, как бы раскаявшись в своей излишней разговорчивости, торопливо отерла грязным передником нос и ушла в кухню.
Не проехав и версты от хутора, мы напали на заячий след. Он шел по направлению к Березовке. Собаки, увидев след, перестали забегать вперед лошадей и степенной трусцой побежали позади нас. Не доезжая до Березовки лежала окладина; след терялся в ней среди высоких кочек, поросших шиповником и мелким, корявым осинником. На минуту мы остановились в недоумении среди окладины. Собаки обнюхивали кусты и суетливо перебегали между кочками… Вдруг страшный крик Михайлы: «3аяц, заяц!» раздался около меня, и я увидел на противоположной стороне окладины ком чего-то серого, с изумительной быстротой удиравшего от нас. Лошади горячо рванулись, испуганные криком, собаки бестолково заметались… Еще мгновение – и Орлик, почуяв удар в бока, в два-три бешеных скачка через кочки, через кустарник вынес меня из окладины. Собаки увидали зайца и неистово помчались ему наперерез. Михайло, нещадно погоняя Копчика, орал невыразимо диким и нелепым голосом: «Ату его, ату, ату!» и почти не отставал от собак. Я несся вслед за Михайлой, тщетно напрягая все силы, чтобы хоть немного умерить пыл Орлика. Но повода до боли резали мне руки, а он, судорожно закусив удила, летел как бешеный.
Не ушел от нас злосчастный зверек, не ушли и еще два. Наконец и нам и лошадям нашим надоела охота… Собаки, и те, кажется, усердствовали больше по обязанности, чем по желанию. Ретивость у всех поостыла. Притом же, мне ужасно захотелось пить. Почему-то я вспомнил рассказ Василия Мироныча про учительницу, нанятую березовцами. Что это за офицерша такая, вдруг возымевшая желание обучать грамоте крестьянских ребятишек? Во всяком случае, барыня интересная… Березовка лежала на перепутье, и я решил просто-напросто заехать к офицерше и познакомиться. «Кстати, там и чаю где-нибудь напьюсь, – думалось мне, – если не у нее, то у Василия Мироныча; самовар у него, кажется, водится».
– Где у вас учительница-то живет? – спросил я бабу, встретившуюся нам при въезде в деревню.
– А ты, Миколай Василич, проезжай по порядку-то, – низко кланяясь, отвечала, по-видимому узнавшая меня, баба, – да и заверни к гумнам. Около гумен-то и стоит ее хибарка. Еще плетeнюшек около ей…
Деревенские собаки с дружным лаем бросились на моих борзых. Баба и попыталась было разогнать их, но задорные Волчки, Шавки, Шарики не обратили ни малейшего внимания на эту попытку и упрямо задирали невозмутимо шествовавшего Карая, хотя приближаться к нему слишком близко и не смели. Что же касается Отрады, то – увы! – она во все силы своих лопаток позорно удирала к хутору, явственно видневшемуся из Березовки. Ребятишки, игравшие на противоположном конце деревни в снежки, с веселым гамом направились к нам, но, узнавши во мне «соседнего барина», ограничились одним рассматриванием зайцев, беспомощно трепавшихся в тороках, да односложными замечаниями, вроде того, что, мол, «экия у него уши-то, робята… бо-о-льшущие!» но травить Карая и кидать в него снежками не осмеливались – робели.
Изба, в которой жила и учила ребятишек «офицерша», резко отличалась от обыкновенных деревенских изб. Она была на довольно высоком кирпичном фундаменте, из хорошего соснового леса, с маленьким крылечком и светленькими створчатыми окнами. Покрыта она была не обыкновенной соломой, а сторновкой, что придавало ей чрезвычайно уютный вид. От деревни до нее было порядочное расстояние, сажен пятьдесят, а может – немного и больше.
Муж той солдатки Степаниды, которой принадлежала эта изба, каким-то образом принес из службы порядочные деньжонки, часть которых и убил на постройку избы, намереваясь открыть в ней кабак, но остальные деньжонки ушли у него целиком на какое-то нелепейшее предприятие, и солдат умер, оставив жену нищей в красивой избе. Почему уж она не продала ее – я не знаю. Вероятно, не успела.
Передав лошадей Михайле, я вошел в избу. Внутренность ее опять-таки была не похожа на внутренность крестьянской избы. Гладкий деревянный пол был чисто вымыт и покрыт узенькими дерюжными половиками, за тесовой перегородкой виднелась небольшая выбеленная печка с лежанкой. На окнах висели кисейные занавески и стояли горшки с какими-то цветами; на стене, между окон, – около десятка фотографических карточек, вставленных в рамки из разноцветных раковин.
В избе никого не было, кроме девушки в обыкновенном крестьянском костюме. Это была сестра Трофима Кузькина – Алена. Я видел ее мельком еще летом, на жнитве, но теперь не узнал, а больше догадался, благодаря рассказу Василия Мироныча о том, что она перебралась к офицерше. На вид ей было лет шестнадцать, если судить по узеньким, почти детским плечам, тонкому, худому стану и не развившейся еще груди. Но при взгляде на лицо, и особенно на глаза, ей можно было дать, пожалуй, и двадцать лет. Глаза эти были какие-то темные, строгие и необыкновенно пытливые. Вообще и выражение всего красивого, смуглого личика было серьезное, а отчасти, пожалуй, и суровое. Особенно помогали этому постоянные складочки между черными, густыми бровями и всегда как будто сжатые губы. Я уж сказал, что лицо у нее было красивое. Нужно добавить, что оно было очень красиво и что главное – необыкновенно привлекательно своим строгим, серьезным выражением и пытливым взглядом глаз из-под полуопущенных длинных ресниц. Когда она усмехалась, – что было очень редко, – глаза эти вдруг загорались каким-то чрезвычайно задорным огоньком, который и пропадал мгновенно, так что долго думалось, не обман ли зрения это прихотливое сверканье…
Когда я вошел, Алена с усердием чистила небольшой самоварчик. Увидав меня, она мгновенно, незаметным почти движением руки, ототкнула высокоподобранную юбку и смахнула рукавом рубашки пыль с лица, но нисколько не оробела и не сконфузилась.
– Что, Алена, аль нет хозяйки-то твоей? – спросил я.
– Нету.
Говорила она отрывисто и как будто нехотя, причем окончание слов почти не выговаривала. Голос у ней был высокий и немного резкий, особенно когда разговор ей не нравился; он тогда становился даже сердитым и грубым.
– Куда же это ее унесло? – пошутил я.
– В Подлесном, – нимало не усмехнувшись, ответила Алена, как-то нервно хмуря брови.
– К кому?
– К попу.
– Стало быть, и ребята болтаются.
Она удивленно вскинула на меня глазами.
– Ведь праздник ноне…
Я только теперь вспомнил, что был какой-то праздник, – впрочем, не из больших.
– Как же, Алена, чайку бы мне напиться?
– За братцем Трофимом схожу, – сказала она, еще более хмурясь.
Я ничего не имел против этого. Мне и самому становилось как-то неловко наедине с дикаркой-девушкой.
Только что она, накинув на голову шушпан{4}, собиралась выходить из избы, как на крыльце послышались голоса. Оказалось – пришел Трофим, который откуда-то с гумна увидел наших лошадей, привязанных к крыльцу.
Между Трофимом и Аленой не было почти никакого сходства. У одной в темных, полузакрытых длинными ресницами глазах вечно светилась какая-то упорная дума, и на всем лице лежал отпечаток несомненно серьезной внутренней работы; у другого был ясный, безмятежный взгляд, иногда немного грустный и рассеянный, но чаще всего полный какой-то тихой, ласковой радости. Бледное лицо, обрамленное черной лохматой бородкой, не носило на себе следа ни мучительной заботы, ни мысли глубокой, – как и взгляд, оно было безмятежно и ласково. Он был, наверное вдвое старше сестры, а может быть, даже и больше.
Одет он был плоховато. На ногах – лапти, хотя и новые, полушубок кой-где порванный; но рубашка сквозила в эти дыры – чистая, да и вообще, несмотря на бедность одежды, грязи на ней заметно не было.
Василий Мироныч, «справедливый» Василий Мироныч, отзывался о Трофиме не иначе, как о мужике «блажном». Хотя, называя его так, он ничуть не переменял своего добродушного тона, да и на самом деле между ним и Трофимом никаких неудовольствий, сколько мне известно, не бывало. Трофим же, величая Василия Мироныча «делягой», «умнейшим мужиком», никогда не называл его «справедливым», хотя я и не слыхал, чтоб он назвал его когда-нибудь «несправедливым» или вообще отозвался бы об нем дурно. Несомненно, что между ними была некоторая антипатия, которую, по всей вероятности, они и сами чувствовали только инстинктивно, – может быть, даже не сознаваясь в ней самим себе.
Мир относился к Трофиму разно. Он то возносил его, то ни во что не ставил, хотя последнее делал отнюдь не с презрением, а так как-то – любя. В давние времена березовцы, – не нынешние березовцы, а предки их, – благодаря особым, исключительно экономическим условиям, которых я тут касаться не буду, выработали в себе пожалуй что и из ряду вон выходящие общинные инстинкты: «дружность», стойкость, сочувствие к своему брату – мирскому человеку. Лет за десять перед освобождением от крепостной зависимости условия, благоприятствующие развитию этих общинных, мирских инстинктов, круто изменились. Мир пошел вразброд, начал разлагаться… Березовцев соседи уж перестали звать «дружными», «мирскими людьми»… Некоторые события, совершившиеся во время самого «освобождения», вызвали было опять эту «дружность» на свет божий, и даже в необычайной силе, но не надолго…
Дело все-таки в том, что у березовцев были, – хотя и смутно сознаваемые и вдобавок почти перезабытые, – традиции, предания прежней «дружной» жизни, прежнего общинного порядка. Усердным хранителем и ревностным поборником этих преданий старого, «дедовского» порядка был Трофим. Вот за это-то возносил его мир. Тут еще пояснение. Мир возносил Трофима, как знатока и поборника старых преданий, не потому, чтобы и сам был проникнут духом этих преданий, нет, этого совсем не было. Он возносил его потому, что чувствовал какое-то младенческое, наивное благоговение перед ними, – благоговение, похожее, пожалуй, на ощущаемое перед какой-нибудь святыней, даже с примесью некоторого суеверия. Но вместе с этим суеверным благоговением перед стариною, перед общинностью, если выразиться языком интеллигентных людей, – известно, что слова «община», «общинность» между крестьянами не употребляются, – мир и не пытался подражать ей, не пробовал жить по старине. По его: «Не те ноне времена!.. Тогда житье было совсем особливое. Одно слово – вол!»
Свои идеалы, свои надежды мир и теперь складывал по образцу «старинного» порядка, но в своей настоящей жизни, и экономической и нравственной, он не только не подражал ему, но даже не без тонкости осмеивал тех, которые подражали или хотели подражать. Вот Трофим-то именно и был из этих хотевших подражать старине, и тут уж мир ставил его не высоко; и если не величал его вслед за Васильем Миронычем – «блажным», то все-таки, так сказать, обходил его, игнорировал, если употребить очень здесь подходящее иностранное слово, то есть «ни во что не ставил – любя», как я уж и сказал где-то выше.
У самого же Трофима предания, касающиеся собственно чисто практических отправлений былой общинной жизни, как-то, невообразимо переплелись с религиозной и нравственной подкладкой этой жизни. Из этого сплетения получилось у него какое-то, для постороннего наблюдателя, чисто хаотическое мировоззрение. Как уж он в нем разбирался – положительно не могу понять. Думается мне, что и сам он не мог бы указать ясно и решительно границ своего оригинального мировоззрения. Не только границы, но и все-то оно было для него, несомненно, смутным, неопределенным, туманным, за исключением самого корня, основы, с которой сбить его было невозможно. Основа эта в его речах выражалась так: