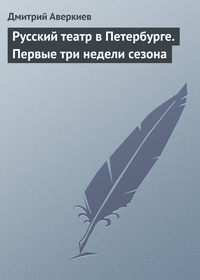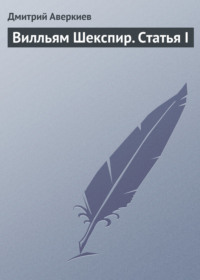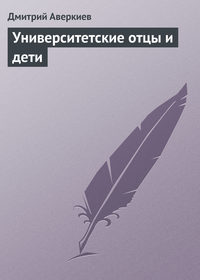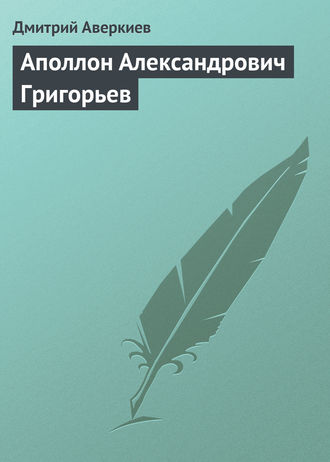 полная версия
полная версияАполлон Александрович Григорьев
Съ друзьями онъ былъ всегда одинаковъ; нельзя сказать, чтобы онъ скоро сходился; если это и случалось, то такая поспѣшная дружба не долго продолжалась. Онъ былъ всегда доступенъ и терпѣть не могъ литературнаго генеральства. Не смотря на свои такъ называемыя увлеченiя, Григорьевъ былъ чрезвычайно строгъ къ произведенiямъ своихъ друзей; если что ему не нравилось, то онъ говорилъ прямо, не обинуясь и часто довольно рѣзко. Всѣ художники, болѣе или менѣе близко знавшiе покойнаго, конечно, подтвердятъ мои слова.
Считаю излишним распространяться объ огромномъ (въ полномъ смыслѣ слова) образованiи покойнаго; читатели могли видѣть это изъ его статей. Нужно было удивляться: чего онъ только не зналъ, какого только автора не читалъ. И не одну русскую литературу зналъ онъ хорошо; неменьше русской зналъ онъ и французскую, и нѣмецкую, и итальянскую, Байрона и Шекспира.
Онъ обладалъ великимъ свойствомъ: умѣньемъ выслушивать и вполнѣ понимать мысль собесѣдника; вотъ отчего съ нимъ было такъ легко и прiятно говорить.
Взглядъ его на природу отличался глубокою религiозностiю, глубокимъ религiознымъ пантеизмомъ если можно такъ выразиться. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ:
Привыкли плоть дѣлить мы съ духомъ…Но тотъ, кто слышитъ чуткимъ ухомъПрироды пульсъ… будь жизнью чистъИ не пороченъ передъ Богомъ,А все – же, взявши въ смыслѣ строгомъ,– И онъ частенько пантеистъИ пантеистъ еще во многомъ.Въ одно изъ послѣднихъ нашихъ свиданiй, читая мнѣ свой переводъ «Ромео и Джульеты», онъ указывалъ на глубокiй пантеизмъ всѣхъ великихъ поэтовъ, на это страшное сплетенiе мотивовъ жизни и смерти, которое такъ ярко выступаетъ напр. въ монологѣ Джульеты передъ тѣмъ, когда она принимаетъ снотворный напитокъ, или въ монологѣ Ромео, передъ отравленiемъ.
– «Да, правъ Шеллингъ», заключилъ онъ, «смерть есть только начало новаго фазиса развитiя; начало новой метаморфозы».
Выше я упомянулъ о его поэтической дѣятельности; онъ цѣнилъ ее по отношенiю къ искренности мотивовъ, но охотно сознавался, что это, собственно говоря, только матерьялы для художественныхъ созданiй. Но поэтическая струя у него была сильна и она нашла себѣ прекрасный исходъ въ переводѣ Байрона и особенно Шекспира. Безъ сомнѣнiя, его переводы Шекспира, необыкновенно оригинальные по прiему, но вѣрные по духу (и даже буквально вѣрные) могутъ быть поставлены наравнѣ съ лучшими переводами А. В. Дружинина, А. Кронеберга и началомъ перевода «Бури» Л. А. Мея.
Мнѣ случилось слышать престранный приговоръ его переводу «Сна въ лѣтнюю ночь», который такъ высоко ставилъ покойный А. В. Дружининъ (а его, кажется, нельзя упрекнуть въ непониманiи Шекспира). Упрекъ этотъ былъ сдѣланъ господиномъ, собиравшимся издавать Шекспира и даже чуть – ли не переводить (не зная подлинника) и состоялъ въ томъ, что переводъ сдѣланъ «слишкомъ по русски» (буквальное выраженiе).
Смѣлость въ передачѣ образовъ подлиника и составляетъ достоинство хорошаго перевода. Дружининъ, при переводѣ Лира, боялся этой смѣлости, желая приблизить Шекспира къ пониманiю публики, но за то Лиръ – самый неудачный изъ его переводовъ, и онъ самъ отказался отъ этой методы при переводѣ Корiолана (лучшiй его переводъ), Ричарда III и короля Джона. Равно, этою – же смѣлостью отличается удачнѣйшiй переводъ А. Кронеберга: «Много шуму изъ пустяковъ».
При переводѣ, Григорьевъ старался оригинальною рѣчью передать характеры Шекспировскихъ лицъ. Это особенно ему удалось въ Ромео и Джульетѣ, гдѣ Ромео, Джульета, Кормилица, Старый Капулетъ, Меркуцiо, слуги – всѣ говорятъ свойственнымъ имъ языкомъ и гдѣ характеры переданы въ совершенствѣ. Григорьевъ въ послѣднее время собирался поприлежнѣе заняться Шекспиромъ. Окончивъ «Ромео и Джульету» онъ хотѣлъ приняться за «Мѣра за Мѣру».
Читатель, надѣюсь, извинитъ меня за нѣкоторыя неровности и шероховатости моей статьи; это объясняется, какъ поспѣшностью работы, такъ и близостью самой смерти Григорьева. Всѣ мы, друзья его, еще не успѣли опомниться отъ этого удара….
Считаю нелишнимъ замѣтить слѣдующее: въ нѣкоторыхъ некрологахъ сказано, что Ап. Ал. былъ въ послѣднее время редакторомъ «Якоря»; это несправедливо; Ап. Ал. оставилъ это изданiе еще въ январѣ, хотя его имя подписывалось подъ названнымъ журналомъ.
Вполнѣ увѣрены, что многiе съ сочувствiемъ отзовутся о покойномъ. Намъ дорого, конечно, только сочувствiе тѣхъ людей, дѣятельности которыхъ мы сами сочувствуемъ, какъ напр. намъ дороги нѣсколько теплыхъ строкъ о Григорьевѣ И. С. Аксакова въ послѣднемъ номерѣ «Дня».
Мы желаемъ только одного, чтобы противники осуждали его не голословно; это важно, ради самого ихъ дѣла.
Заключаю тѣми – же двумя стихами, которыми началъ, и которые такъ любилъ покойный:
Мертвый въ гробѣ мирно спи,Жизнью пользуйся живущiй![6]6–го октября.Примечания
1
Авторъ говоритъ здѣсь какъ – бы отъ лица редакцiи. Дѣйствительно, по нашей просьбѣ написалъ онъ эту оцѣнку дѣятельности и литературныхъ заслугъ покойнаго и дорогого сотрудника нашего. Какъ ближайшiй изъ друзей покойнаго онъ полнѣе и удобнѣе другихъ могъ исполнить эту обязанность. Ред.
2
Стоитъ вспомнить метаморфозу растенiй Гёте, сперва осмѣянную натуралистами, но горячо принятую натурфилософами; далѣе – его же и Океновскую теорiю черепа, поддержанную Стефаномъ Жоффруа – Сентъ – Илеромъ, и послужившую образцомъ для обширнѣйшихъ изслѣдованiй; наконецъ самую теорiю Дарвина, соотвѣтствующую давно провозглашонному натурфилософами закону постепеннаго развитiя органическихъ формъ.
3
Она должна ихъ устранять чтобъ быть логичною и съ собой согласною – еслибъ даже того и не хотѣла, еслибъ сама натура критика лично вооружалась противъ того всею своею жизненностiю. Примѣръ, – Бѣлинскiй въ послѣднiе годы своей дѣятельности. Ред.
4
Ибо уродливость есть нечто иное, какъ недоразвитiе формы, или развитiе одной части на счотъ другой; нестройное, хотя и органическое развитiе.
5
Это и потому еще, что Григорьевъ былъ шире Добролюбова, шире, глубже и несравненно богаче одаренъ природою, чѣмъ Добролюбовъ. Добролюбовъ былъ очень талантливъ, но умъ его былъ скуднѣе чѣмъ у Григорьева, взглядъ несравненно ограниченнѣе. Эта узкость и ограниченность составляли отчасти даже силу Добролюбова. Кругозоръ его былъ ýже, видѣлъ и подмѣчалъ онъ меньше, слѣд. и передавать и разъяснять ему приходилось меньше и все одно и тоже; такимъ образомъ, онъ, само – собою, говорилъ понятнѣе и яснѣе Григорьева. Скорѣе договаривался и сговаривался съ своими читателями чѣмъ Григорьевъ. На читателей мало знакомыхъ съ дѣломъ Добролюбовъ дѣйствовалъ неотразимо. Не говоримъ уже о его литературномъ талантѣ, бòльшемъ чѣмъ у Григорьева, и энтузиазмѣ слова. Чѣмъ ýже глядѣлъ Добролюбовъ, тѣмъ, само – собою, и самъ менѣе могъ видѣть и встрѣчать противурѣчiй своимъ убѣжденiямъ, слѣд. тѣмъ убѣжденнѣе самъ становился и тѣмъ все яснѣе и тверже становилась рѣчь его, а самъ онъ самоувѣреннѣе. Ред.
6
Полная (возможно) бiографiя и оцѣнка дѣятельности покойнаго будетъ приложена къ изданiю его сочиненiй.