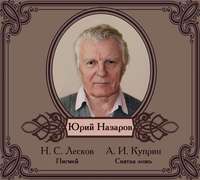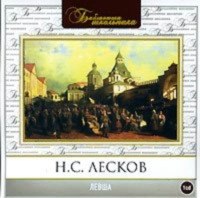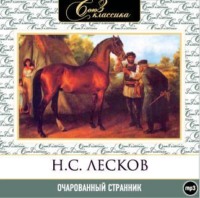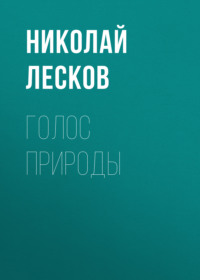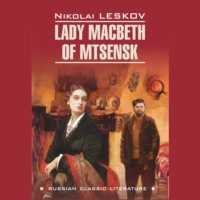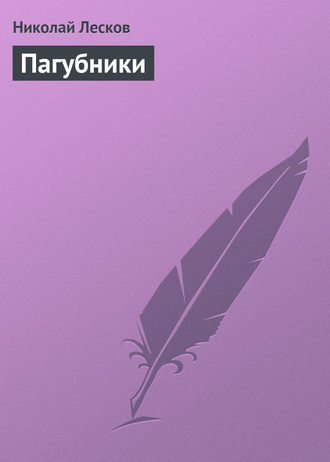 полная версия
полная версияПагубники
– Ишь сволочи какие! – говорит тетка. – Да и лучше сделали, что отказали. Не мало местов есть окромя. Я тебя на лучшее место сведу, а теперь на сестрину свадьбу домой приедем. Чего еще – наслужишься им подлым, – а у нас теперь весело… качели поставили. Пойдем сейчас с этими деньгами сукно покупать: может быть, от десяти рублей-то еще и себе на розовый ситчик выторгуем. Они ведь, хозяева, тебе все синенькое да коричневое шили.
Девочка сквозь слезы припоминает, что хозяева дарили ей и платья и других цветов.
– И серенькое дарили. Она помнит, как ей дарили это платьице и как весело все они вместе его шили и примеряли – как сама хозяйка пришпиливала на ней выкройки и говорила:
– Не вертись, вертушка, а то уколю булавкой.
Все это было так тепло, радостно и семейно. Теперь так не будет больше.
Будет иное – будет веселее, иное будет.
Тетка дает мыслям направление, соответствующее обстоятельствам.
– Легко ли, невидаль, серенькое. Что ты, богаделенная старушка, что ли, или сестра милосердия – ходить в сереньком? Мы сейчас пойдем розового отхватим, да с спаньем сделаем – у меня в рынке в лавке знакомый прикащик есть, – он нас уважит.
– Спроситься надо.
– Чего? Отказали, и кончено. Вот тебе еще какое кушанье. Тьфу! Наплевать, да и только. Идем.
Ушли. Тетка плывет впереди как гусыня. Девочка идет за нею в волнении, – совесть ей говорит, что она поступает гадко, неблагодарно, но тетка плывет как гусыня и гогочет: го-го-го. Она довольна – на широку воду выплыла. Вот рынок, шумно, весело, молодцы закликают, зовут «барышнею»… Лавка кажется таким изяществом, и прикащик с расчесом на аглицкий манер – совсем на барина сходствен… Только оказывается, что выторговать совсем нечего: сукно стоит не по три рубля, а по три с полтиной… Полтинника еще недоставало. При тетке своих денег тоже нет – у теток никогда своих денег не бывает. Сукна бы нельзя купить, но прикащик выручил: он на полтинник поверил и розового ситцу отрезал – только не отпустил при других, а обещал принести в трактир.
Надо идти ждать в трактире. Это первый раз страшно, но тетка ее успокоила.
– Чего бояться? – трактирщик не наших мест, – чаю напились, и только.
Чай, мед, лимонад… еще что-то… Тетка стала красная… и все пошло в круг! извозчик, куда-то едут… что-то страшное… Утро, незнакомая комната… «Ах! Где это?» А пьяная тетка крепко-накрепко спит на диване.
– Пойдем, пойдем отсюда! – будит ее девочка.
Та тоже крестится… Ни за что она не думала, что так выйдет… Все лимонад испортил.
– Об одном тебя прошу, – говорит, – никому не сказывай, как я ослабла-то… Мы ведь к лимонаду непривыкши.
Напрасная просьба! Скромность в подобных случаях обязательно приходит сама собою.
Девочке хочется только уехать скорее…
Она заходит к хозяевам «только взять узелок». Она «как потерянная», но для объяснения этого состояния слишком много причин, за которыми не рассмотреть настоящей. Другие вещи, составляющие богатство девочки, ей дозволяют оставить: «все тебе сбережем».
– Знаю, знаю, – плачет она, – вы мне лучше всех родных.
Она со слезами целует руки и уезжает «на свадьбу». А свадьбы, по народному выражению, бывают «с трубами», бывают и «без труб». Одна идет въявь, другая тай.
Проходят картины деревенской свадьбы.
Вино до одури, срамные намеки, от которых у непривычного человека лицо горит… В городах это все завертывают в бумажки, а здесь так прямо враструс сыпят… «Лови, девки, лови, бабы, лови, малые ребятки»… Во все уши – всем сестрам по серьгам. Чад от вина, от убоины, от масляной каши и жирных драчен; несуразный, дикий хохот, бесстыжие песни, бесстыжие сцены; у девок и у женщин лица красные, как будто сейчас только из бани вышли и опять сейчас туда, опять готовы… Хлещи-плещи, бань и талань, кто хватче! Никто, кроме свах да дружков. Один скажет хорошо, а другая поправит еще лучше. «Народ со смеху киснет». С печи «снимают» старого деда. Это уже человек не от мира сего. Дружка говорит: «Спеши, дедушка, а то не поспеешь. На тебя уже на том свете месячина идет».
– Небось, брат, поспею! – шамшит дед и, поднимая стаканчик, возглашает:
– Горько!
Хохот.
– Вот дед уважил!
Поцелуи.
Им нет конца…
«Пригубь на горько… пригубь на сладко». Это занимательно.
…В молодой голове все как туман застилает… Волостной писарь с гитарою исподтишка критикует крестьянскую дикость: он говорит почти таким же образованным языком, как типографский наборщик, этот опасный в сердечном чувстве человек с губеровским настроением.
«Я, – говорит, – здесь только для вас и существую, Аграфена Егоровна, а на других бы всех я и смотреть не стал. Одна серость бесстыдства». Он целомудрен и стыдлив. Пьяны все, и отец пьяней многих, – он «хозяин», и в это время он неистовствует, – мать спрятавшись, потому что муж «бьется»… «Ты, – говорит он, – понимай», – а сам ничего не понимает. Надо искать мать. Вернее, она в половне, в солому закопалась… Девочка идет, и писарь за нею. С ним она ничего не боится – «он такой честный господин».
В соломе так топко, так темно… Нет, он не честный господин!.. Она теперь знает, «как все мужчины подлы».
Произошло «повторение бенефиса»…
– Зачем же это, зачем вы с такой низостью! – говорит она вся в слезах, встречая вечерком писаря.
Он оправдался, он так ее любит и между тем осужден жить в крестьянской серости.
Пусть другие, грубые люди пьют, а Груша и он вдвоем катаются… Луна, ночь… Соловей свищет.
Девочку начинает тошнить… Она со своим горем к писарю… Ужасное открытие: он женат!.. «Так зачем же… зачем?» Тот отвечает: «ты такая была»… Она в отчаянии. Мужчины подлы – это так, но надо сознаться отцу, матери или хоть тетке. Тетка, однако, оказывается всех гораздо находчивее: она учит – «проси у него на дорогу и бери паспорт, да ступай в Петербург – там в воспитательный дом, а сама к богатым в мамки». Готово! – денег нет, но паспорт есть. Ступай на все четыре стороны.
Прощаются, родители благословляют, плачут и дают наставление: «Смотри, веди себя честно, а как из мамок будешь выходить – смотри платье мамошное татарам не продавай, домой пришли – сестрам надо».
Везет дочь в Питер сам отец – он там снова будет извозничать. Дорогой у отца с дочерью обо всем бывшем ни слова – только когда почтенному человеку надо подкрепиться национальным зельем, он своего гроша не тратит, а говорит дочери: «Грушенька! поищи чего-нибудь по мелочи для родителя».
Та дает какие-то последушки. Отец наблюдает за ней и спрашивает:
– Это от кого у тебя – от писаря?
Девочка отвечает: «нет». Она сама не знает, откуда у нее еще уцелели какие-то остатки мелочи. И припоминать не хочется. А отец празднословит:
– Так от кого же?
– От черта, – резко отрывает дочь.
Отец обижается.
– Ну дочь! Вот так дочь! – говорит он. – Вот так дитя милое! Ишь как отвечаешь! Разве это так можно родителю? Добру тебя, видно, хозяева в городе наставили.
Это несправедливое замечание бьет как нож в сердце и пробуждает бурю.
– Неправда твоя, – говорит она отцу. – Мои хозяева были люди добрые и добру меня научали. А только я глупа была, что их не слушалась, а вас слушала.
Обида возрастает и умножается.
– Вот как! – восклицает отец. – А мы тебя разве дурному учили? Мы тебе всегда писали: веди, дочка, себя честно!
Разговор, – как всегда бывает при тайностях, – словно нарочно попадает не на ту колею, куда следовало, и, что называется, пронзает измученную душу, исторгая из нее страдальческий вопль, который в простонародном вкусе принимает характер перебранки.
– А уж черт бы вас взял с вашими письмами!.. – отвечает грубительски дочь. – Знаем мы вас: «веди себя честно, да пришли нам чаю и сахару, и кофию, да денег побольше». Честные вы! честные! честные!
В ней кипит злоба, отчаяние, голос ее истерически дрожит, и на ресницах ходят истерические слезы… Этого с нею еще никогда не было… Это новость теперешнего ее исключительного положения. Отцу даже жутко становится, и он безмолвствует – она тоже. Ее томит мучительное предчувствие чего-то еще худшего – неизвестного, но неотразимого и близкого.
Отец, если хотите, в самом деле огорчен строптивостью и грубостью дочери.
Ведь они в самом деле всегда наставляли: «веди себя честно»…
А предчувствия Грушу не обманули: в деревне никому в голову не пришло, что такое ее встретит в городе. Она в таком неопределенном возрасте: не девушка и не девочка, – какой-то межеумок, а между тем у нее как-то особенно потянуло щеки, и в фигуре ее для наблюдательного взгляда есть что-то двусмысленное.
Женщины на этот счет очень проницательны и готовы дать добрый совет: «вы подождите немного и тогда можете в мамки». Это ужасно! Все читают ее позор. Она не хочет идти на старое место, где ее любили и берегли. Ей совестно добрых людей, которым она заплатила за их добрые чувства к ней непочтительностью и неблагодарностью. Но, однако, доколе придет ее час, ей необходимо надо пристроиться – и она ищет средства сделать это как-нибудь иначе.
«Город большой, – припоминаются ей слова тетки: – не то, так другое делать можно».
Но что делать и где это делать? Ведь не просить милостыни Христовым именем – это тоже дело, это – занятие, которыми занимаются очень многие люди. Как каждый из них дошел и зашептал: «дайте Христа ради!..» …Бррр, как это страшно! Тетка тогда говорила, будто «просить никогда не стыдно». Неправда, – так просить очень стыдно.
Девочка горит от стыда от одних размышлений, что с нею может случиться. А места нет и нет. Извозчики говорят: «иди к нам в стряпки: хорошие щи будешь варить – маткою звать будем»… Ей не хочется в «матки» к извозчикам – у них так сыро и гнило в их низкой подвальной квартире, с подпорками и черными стенами, где стоит густой тяжелый запах от сырых потников и полушубков… Это совсем не то, что было у покинутых хозяев, от которых свела ее тетка…
Девочка забирается в темный угол, прищуривает свои ознакомившиеся со слезами глазки и старается унестись из своего настоящего в милое прошлое. Это можно на легких крылах воспоминаний и мечты. Она теперь в уютной, светлой комнате, у круглого стола, на котором стоит чистая лампа. Вокруг добрые, честные лица – все за делом… Вот пожилая дама в очках… Она их поднимает на лоб и говорит не скоро, с рассуждением. Это она примеряла Груше носильные платья, которые все они шили вместе… Она ее крестила в молчании, с глазами, полными слез, когда отпускала ее, наученную говорить дерзости… Как там было хорошо… Это был рай в сравнении с тем, на что теперь приходится открыть глаза. Бежать туда… Нет, нет… там стыдно показаться, но пройти мимо… Взглянуть на знакомые окна… это можно; и это принесет ей какую-нибудь отраду. Зачем ей лишать себя этого… В извозчичьей избе теперь пусто… Их никого нет дома, только сверчок заунывно чиркает, да кто-то тихо-тихо дышит за печкой… Это кот угрелся. Но пока Груша догадалась, что это кот, ее глаза заметили в углу какой-то туманный облик… Фигура… человек весь в сером, как будто в золе или в паутине… Это не мужчина, не женщина – это совесть… Она любит навещать друзей в сумерки и любит не спешить, а посидеть в гостях, пока не надоест… С нею жутко, от нее манится прочь, на воздух, на ветер, в толпу, меж людей. Серый человек, посещающий смятенную душу в тихий час сумерек, робок, он боится всякого многолюдства и шума. И оттого, если вам жутко, когда он зашевелится где-нибудь вблизи от вас в тот час, когда все кошки кажутся серыми, вы сейчас же можете прогнать от себя этого незваного гостя: позовите только к себе скорее кого-нибудь из тех счастливцев, к которым совесть еще не приходила, – и серый человек сникнет… Груша это чувствовала: ей стало жутко, она покрыла голову платочком и выбежала из двери, оставив логово приютивших ее земляков извозчиков без запора и присмотра.
Несносно, душно, тяжело… На воздухе легче. Свежая оттепель, ветерок со взморья так хорошо обвевает жаркую шею и щеки, фонари горят ярко и слегка вздрагивают, на небе луна во всем блеске, и этот блеск с высоты небес отражается в темной лужице, образовавшейся у тротуара… Ветерок рябит воду, и свет в ней дрожит. Сзади яркие окна какого-то магазина, проходят разговаривая люди, пробегают швейки с коробками, идет мужичок с лотком, закрытым отрепками старого ватного одеяла, и напевает: «и с вязигой, и с грибами, потчиваю пирогами» …Весело… Серый человек, вздыхавший в углу, исчез…
Груша смотрит, как луна дрожит в луже, и припоминает, что ей приходила в голову глупая мысль вернуться домой, в свою деревню… Что же ей там делать? Там хуже, здесь веселее, здесь все лучше, даже эта луна здесь иначе рябит в темной луже. Только вот ее кто-то вывел из впечатления… Это – женщина с ребенком на руках, – она просит «Христа ради»… Вот это, значит, как надо, – в сумерки, когда не видно лица… Груша ей ничего дать не может… Она бы охотно подала, но у нее ничего нет, она сама готова точно так же протянуть свою руку… Домой, в деревню, она не поедет. Нет, ни за что на свете! Там станут ее упрекать, будут над нею смеяться, а здесь… здесь, по крайней мере, ее не знают… здесь можно все, потому что никто не увидит…
И опять ее выводит из ее забытья голос… Это иной человек: этот ее жалеет, называет ее «бедным ребенком» и кладет ей что-то в руки… Она берет и держит, что ей дали, в каком-то онемении… Голос говорит ласково: «Возьмите эти деньги. Я вижу, что вы расстроены. Вернитесь домой и через день, в этот час, выйдите сюда снова: я об вас подумаю». Добрый человек! Счастливый случай! Она шла посмотреть в окна дома, где она жила смирною, счастливою девочкой, но не дошла… И она уже и не дойдет туда никогда… Зачем? Добрый человек ее не забудет. Он ее встретит, и она не ошиблась: он, действительно, ее встретил, но только он не совсем так бескорыстно добр, как она думала… Он скоро и совсем перестал ее встречать, и доброта его кончилась… Но она зато одета, она уже не живет у извозчиков. Серое привидение, впрочем, ее везде находит в сумерках, и она от него бежит и попадает на новые встречи… Перед ней разостлалась скатертью дорога…
Она пропала… Да, она теперь не девочка Груша, а она – «барышня». Извозчик «со своей стороны», который так недавно и так наивно приглашал ее в «матки» для своей артели щи варить, теперь не сделал бы ей такого предложения. Теперь он говорит: «барышня», «сударыня». А что он о ней думает? О, она поднялась в его глазах ровно настолько же, насколько упала. Если бы разговор довести до задушевной откровенности, то предложи она сама себя теперь ему в стряпки – он с мужичками простодушно ответит:
– Куда ты нам кстати!.. Кто твои щи хлебать станет?
Она погибла. У нее в свое время является дитя. Его относят в воспитательный дом. Она над ним плачет, берет на него «номерок»… и метит ему ляписом ноготки на ручке, чтобы его не переменили. Она непременно хочет воспользоваться правом «взять его на свое попечение», и она его, может быть, возьмет. Это будет, может статься, ужасным несчастием для младенца, но она сама о том не подумает. Теперь ей уже некогда думать, в ее голове вздор. В мамки ее никто не возьмет, да она и сама не станет особенно искать этого. Она знает, какое у нее прошлое.
В том учреждении, где дитя ее увидело свет и впервые вскрикнуло от ощущения воздуха, всегда есть такие, кто знает средства, как помочь себе в этой жизни. Они уже были искушены таким же горестным положением и знают, как помочь искушаемой. Они ей укажут адрес, где ее приютят и не станут справляться ни о чем в ее прошлом. Все, что там нужно, она принесет туда с собою. Это – ее молодость и некоторая милота ее наружности.
Нужда, привычка и слабость ума и воли решают выбор… Она теперь пойдет со ступеньки на ступеньку ниже и ниже и со временем дойдет до житья в «Вяземской лавре» и до торговли гнилыми яблоками. Позже еще протянет изнеможденную руку и, скрывая свое обезображенное лицо, попросит милостыни «Христа ради»… И только разве тут, только на этих последних ступенях ее оставит домашнее попрошайничество. Да, до сей поры ее все будут просить прислать им «чаю и сахару, кофию, и платья, и денег»… Это попрошайничество не пощадит несчастную во всех пройденных ею положениях и притупится разве только с сознанием, что с дочери уже «взять нечего, потому что она нищая»… Но пока она находится в барышнях и одевается в яркие платья, ей не дают покоя. Напротив, к ней во все это время приступают еще настойчивее; ее укоряют, ей пишут: «мы тебя так жить не благословляли, мы наставляли жить честно, а ежели у тебя такое произволение, то по крайности вспомни хоть про своих домашних и пришли домой чаю, кофию и денег и сестрам какое платье залишнее». И так далее – все в том же роде, и во все это время ее «навещают», и все видят, и понимают, чем она живет, и все тянут и тянут с нее, пока можно хоть что-нибудь у нее взять и увезти. Посещение «ночлежных», где сходятся петербургские нищие, не раз убеждало меня в том невероятном факте, что добрая сельская семья находит возможность вытягивать кое-что даже у нищенствующих. Разве уж те сами одеревенели от голода и, как издыхающие кошки, ищут не тепла, где согреться, а ямы, в которой протянуться и окостенеть. Тогда – конец.
Конец! Да, таков более или менее конец этих обыкновенных историй, а их начало в той семейной и родственной жадности, в той деревенской глупости и безрасчетливости, с которой сами родители не дают детям окрепнуть на ногах и созреть в силах до способности принести семье в свое время действительную помощь, которая бы стала полезнее узелочков сахару и кофе, истощающих средства девочки, когда она еще еле-еле начинает зарабатывать на кусок хлеба. Деревенские родители, при своей жадности и непонимании жизни, сами, своим необдуманным и неразборчивым поведением подставляют детей влияниям людей дурных – сами часто дают первое направление, чтобы не ценить и не уважать в хозяевах людей доброй нравственности и хороших правил. Страшно сказать, но нельзя потаить, что истинными девичьими пагубниками у нас в наибольшей части являются жадные на подарки родственники и даже часто сами родители подрастающей девочки. И они с этим, конечно, ни за что не согласятся – они вам непременно скажут, что они наставляли «вести себя честно», и они действительно не видят и не понимают зла, какое они делали своим детям, портя их детское чувство и развивая в них изобретательность – как достать чаю, кофию и сахару. Они не знают, что большие дела бывают от малых причин, и… Вот вам серьезный и основательный повод вмешаться в это дело, мой благосклонный читатель! «Не бывайте только свидетели, но бывайте и делатели, ко славе Божией и облегчению искреннего своего». Оглянитесь вокруг себя, припомните хотя бы одну из малых сих, о которых я раскрыл вам что мог и как умел, щадя вашу скромность и мир души вашей; проверьте мой рассказ через тех ремесленниц, у которых есть молодые ученицы, – и вы наверно услышите подтверждение моих слов.
Русская простонародная семья только в очень редких, исключительных случаях представляет те простые, достойные уважения добродетели, которым украшает ее тенденциозно настроенная фантазия беззаветных поклонников деревни. Русская простонародная семья нравственно больна в деревне так же, как и в городе. Разница между ними только в понимании. Городской простолюдин более знает так называемые «городские обстоятельства» и обращается с ними умнее и осторожнее, чем поселянин, который о тех же «городских обстоятельствах» имеет понятие недостаточное и неверное. Он, по простонародному же выражению, – «летит, как ворона», т. е. берет все слишком прямо, не соображая ничего, в чем благоразумие и опыт горожанина видит опасность и старается обойти ее. В обществе много зла и соблазнов, которые, может быть, не совсем правильно слагают на вину одной «городской культуры», но от чего бы оно ни шло, несомненно зло есть, и всего вероятнее – оно есть от того, что в несовершенной природе человека есть наклонность ко злу. Этот вопрос имеет весьма большую и славную литературу, в которой занимает очень почетное место трактат Эрнеста Невиля. Кто хочет сделать себя состоятельным, чтобы судить о зле и его вероятных причинах, – тот найдет удовлетворение своей любознательности в готовых сочинениях, вышедших из-под пера людей, обнявших предмет так широко и многосторонне, как я не могу этого сделать. Моя задача обыденнее и проще, а притом она и гораздо уже, и предложить нам на потребу злобы сегодняшнего дня, когда в нашем обществе, вследствие каких бы то ни было причин, обострилось внимание к изобилию молодых девушек, идущих путем, делающим бесчестие их полу. Тут нет нужды отвлекаться в разбор философских теорий о социальном зле, а достаточно стоять на самой простой точке – прямой и практической пользе, которую всякий человек принести может, если он того захочет.
Возвращать с того пути, который мы считаем гибельным и которым, без сомнения, идут очень многие девушки, – конечно, гораздо труднее, чем остановить у его гибельного начала. «Возвращать» – это дело людей особенных сил и особенных добродетелей, которые даны не всякому. Это дело титанов или праведников, которым их необычайная любовь и самоотвержение дают чудотворную силу воскрешать к жизни то, что «четверодневно и смердит». Тот, на чье имя «уповают народы» (Мф;, XII, 21), одним словом, одним своим появлением восстановлял чистоту «в сердце сумрачном блудницы». Если вы не читали в подлиннике этого апокрифа, то вы, конечно, читали прекрасное стихотворение гр. Ал. Толстого («Грешница») или стояли в благородном самоуглублении перед картиной Семирадского, который изобразил это священное чудо в пластических образах. Люди обыкновенных сил и средних дарований, как все мы, не должны и не смеем претендовать на достижение чего бы то ни было вроде того, что передает нам апокриф, вдохновивший нашего поэта и живописца. В наши дни существуют и где-то действуют комитеты, состоящие, быть может, из очень благонамеренных людей, готовых направить и навести на путь истины все с него совращенное; но вся их слава, которая по словам мудрого «бывает громче дел, ею возвещаемых», – не вострубила еще о совершении ими дел, достойных прославления. «По плодам их познаете их» (Мф., VII, 16), а плоды их суть не плоды, а «смоковничьи листья», которые не покрывают даже сверкающую наготу всех их забот и попечений. Беспристрастное и основательное изучение этих дел способно убедить разумного человека только в одном полном бессилии сих деятелей одолеть роковое и старое зло, известное нам со времен библейских. «Мир положен во зле» (1 Ион., V, 19) и «соблазнам надлежит прийти» (Мф., XVIII, 7. Лк., VII, 23), но надо, чтобы нам самим «не соблазнить никого» (Мф., XVII, 27). Соблазн и ложь идут рядом, и от лжи родится соблазн.
Хромой бочар в Нюренберге не делает луну, точно так же как не он делает и общественное мнение, установляющее тот или другой взгляд на известные причины известных последствий в общественной жизни. Это делаем мы – вы, я и всякий другой нам подобный. Если вы и я не хотим вникать в дело своим словом или деланием или неделанием поддерживаем заблуждение – мы повинны во всяком зле и соблазне. Присмотритесь к делу, откинув всякие предвзятости в пользу «простодушных поселян» или не в пользу «культуристов», прислушайтесь к общему почти голосу педагогов и хозяев – и вы от них не услышите похвалы семье русской. Общий голос этих людей такой, что «дети из семей приносят в школы и в заведения ужасные понятия», с которыми приходится отчаянно и часто безуспешно бороться. Читайте газетные объявления: «ищут для прислуги девочку из деревни». Пойдите к этим «ищущим», и вы услышите при их договорах требование: «чтобы не ходили тетки». Неужто это не убеждает вас, что все это множество людей, чуждых всякой направленской тенденции, опытом знает, откуда приходит зло и соблазны?.. Конечно, хозяева (как и воспитатели) оберегают себя от неприятностей дела с привходящею порчею принимаемого ими подростка, но и самый великий интерес каждого из «малых сих» находится в связи с этим требованием. Родные на это обыкновенно дают свое согласие и потом не исполняют своего обещания – и происходит приблизительно то, что я вам рассказал в невымышленной истории Груши…
Если вы не уверены в том, что я привожу тут как плод моих наблюдений, сделанных в течение двадцати пяти лет жизни в Петербурге, то проверьте их… Это так нетрудно, потому что это совершается на всякий час и на всяком месте, – в числе ваших знакомых, в числе известных вам ремесленных хозяев непременно вы встретите людей, которые вам основательно расскажут – какое зло приносят детям посещающие их сельские родственники. Поверьте же этому голосу многих и не прилагайте зла ко злу, поддерживая тенденциозных болтунов и мечтателей, рассказывающих о чистоте сельских нравов и о заботе родных. Пусть есть прекрасные исключения в этом роде – этого никто не может оспаривать, но дело не в исключениях.
И почему в самом деле свет исходит из тьмы – «от вещи во тьме приходящей»? К чести нашего большого города, обильно прославленного своим эгоизмом, кто из нас не знает семейных и одиноких людей, которым тот или иной случай привел беспомощного ребенка, и они его призрели, полюбили и ведут как умеют ко благу, – «из мрака к свету». Узнайте же теперь, сколько из них имеют завидное счастие вести это дело без помехи и досаждений со стороны родственников дитяти… О, как благополучен тот, кто призрел и возлюбил круглого сироту, у которого нет ни роду, ни племени, и как много горя и досаждений ждет того, у чьего питомца или питомки есть родные!.. Пусть вся их заслуга перед этими детьми заключается в одном извержении их в юдоль плача и страданий, но эти родные по названию отравят вашу жизнь своими правами, своими самыми пагубными и даже часто жестокими вмешательствами… Наконец, мало того, – увидав, что вы полюбили ребенка и жалеете его, они прямо и беззастенчиво перейдут к эксплуатации вашего чувства… Это в нравах, в обычае, даже, может быть, в правилах их «безыскусственного чувства». Вы любите несчастное дитя, вы хотите о нем заботиться – платите за это! Доход с ребенка – это самая законная вещь по понятиям его родителей. Если вы неподатливы или не найдете средств защитить дитя от притязаний матери, которая его не любит, но имеет на него права, – она обратится к властям и отнимет его у вас, и… потом его бросит… В приют или под забор… И это лучшее – а то она его сдаст тетке, живущей где-то на кухне или в вертепе, где принимают «ночлежных». Там ребенку погибель… если вы его не отыщете и не покоритесь, т. е. Не дадите за него выкуп…