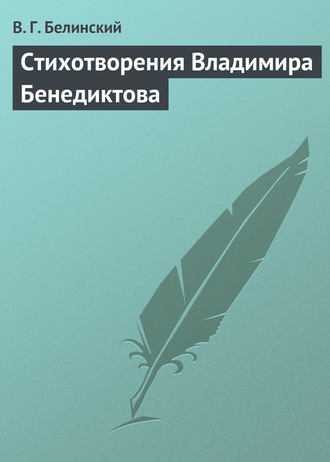 полная версия
полная версияСтихотворения Владимира Бенедиктова
или:
Но грустно думать, что напрасноБыла нам молодость дана,Что изменяли ей всечасно,Что обманула нас она;Что наши лучшие желанья,Что наши свежие мечтаньяИстлели быстрой чередой,Как листья осенью гнилой.Несносно видеть пред собоюОдних обедов длинный ряд.Глядеть на жизнь, как на обряд,И вслед за чинною толпоюИтти, не разделяя с нейНи общих мнений, ни страстей.Вот вам мысль в поэзии! Это не рассуждение, не описание, не силлогизм – это восторг, радость, грусть, тоска, отчаяние, вопль! Но мое любимое правило – вещи познаются всего лучше чрез сравнение; итак, возьмите стихотворение Жуковского «Русская слава» и стихотворение Пушкина «Клеветникам России», сравните их; или, лучше, противопоставьте «Русской славе» эти немногие стихи из «Онегина»
Как часто в горестной разлуке,В моей блуждающей судьбе,Москва, я думал о тебе!Москва… как много в этом звукеДля сердца русского слилось!Как много в нем отозвалось!. . . . . . .Напрасно ждал Наполеон,Последним счастьем упоенный,Москвы коленопреклоненной,С ключами старого Кремля:Нет, не пошла Москва мояК нему с повинной головою.Не праздник, не приемный дар,Она готовила пожарНетерпеливому герою.Отселе, в думу погружен,Глядел на грозный пламень он.Тогда вы вполне поймете, что такое мысль в поэзии и что такое в ней чувство, и что одно без другого быть не может, если только данное сочинение художественно. Теперь укажите мне хоть на одно стихотворение г. Бенедиктова, которое бы заключало в себе мысль в изложенном значении, в котором бы эта мысль томила душу, теснила грудь; в котором был бы хотя один сильный, энергический стих, невольно западающий в память и никогда не оставляющий ее! «Полярная звезда» по красоте стихов – чудо: этому стихотворению можно противопоставить только «Ганимеда» г. Теплякова; но оно сбивается на описание, и я не вижу в нем никакой мысли; а это, не забудьте, единственное, по стихам, стихотворение г. Бенедиктова. Кстати об описаниях: описание – вот основной элемент стихотворений г. Бенедиктова; вот где старается он особенно выказать свой талант, и, в отношении ко внешней отделке, к прелести стиха, ему это часто удается. Но это все прекрасные формы, которым недостает души. В старину (которая, впрочем, очень недавно кончилась) все питали теплую веру в описательную поэзию, а староверы, всегда верные старопечатным книгам и стародавним преданиям, и теперь еще признают существование описательной поэзии. Об этом спорить нечего – вопрос давно решенный! Описательной поэзии нет и быть не может как отдельного вида, в котором бы проявлялось изящное; но описательная поэзия может быть везде в частях и подробностях. Описание красот природы создается, а не списывается; поэт из души своей воспроизводит картину природы или воссоздает виденную им; в том и другом случае эта красота выводится из души поэта, потому что картины природы не могут иметь красоты абсолютной; эта красота скрывается в душе, творящей или созерцающей их. Поэт одушевляет картину своим чувством, своею мыслию; надобно, чтобы он или любовался ею, или ужасался ее, если он хочет прельстить или ужаснуть нас ею. Картины Кавказа и таврических ночей у Пушкина пленительные, потому что он одушевил их своим чувством, потому что он рисовал их с этим упоением, с которым юноша описывает красоту своей любезной. Может быть, увидя Кавказ и слича действительность с поэтическим представлением, вы не найдете никакого сходства: это очень естественно – все зависит от расположения нашего духа, потому что жизнь и красота природы таятся в сокровищнице души нашей; природа отражается в ней, как в зеркале: тускло зеркало, тусклы и картины природы, светло зеркало, светлы и картины природы. Я, право, не вижу почти никакого достоинства в описательных картинах г. Бенедиктова, потому что вижу в них одно усилие воображения, а не внутреннюю, полноту жизни, все оживляющей собою. Вот, например, эта картина имеет свой смысл, потому что вышла прямо из души:
День угаснул – потемнелиВоды, рощи и поля;Как младенец в колыбели,Спит прекрасная земля.Сон ее благоговейноДобрый гений сторожит;Все так мирно, все молчит,Только ветер тиховейныйВ час, как дремлет дол и сад,Розмаринный и лилейныйПереносит аромат.Вот и он – красавец ночи-Месяц по небу взошел,И на спящую навелОн серебряные очи.Реже сумрак, свет темней,И как будто из лучейВдруг соткалось покрывалоИ на грудь земли упало.О месяц, месяц, сколько разТы в небе весело сияешь,Но как же мало светлых глаз,Как много слез ты озаряешь!Тебя не тот с тоскою ждет,Кто не изведал с роком битвы,Кто благодарные молитвыЗа день свой ночью отдает!Но от восхода до закатаТот глаз не сводит от тебя,Чья жизнь утратами богата,Кто часто плакал про себя![5] и проч.В стихотворениях г. Бенедиктова все не досказано, все неполно, все поверхностно, и это не потому, чтобы его талант еще не созрел; но потому, что он, очень хорошо понимая и чувствуя поэзию воспеваемых им предметов, не имеет этой силы фантазии, посредством которой всякое чувство высказывается полно и верно. У него нельзя отнять таланта стихотворческого; но он не поэт. Читая его стихотворения, очень ясно видишь, как они деланы. Если г. Бенедиктов будет продолжать свои занятия по стихотворной части, то он со временем выпишется, овладеет поэзиею выражения, выработает свой стих, не будет делать этих детских промахов, на которые я указал выше; словом, будет писать так же хорошо, как г. Трилунный, г. Шевырев, г. М. Дмитриев, но едва ли когда-нибудь будет он поэтом. Первые стихи поэта похожи на первую любовь: они живы, пламенны, естественны, чужды изысканности, вычурности, натяжек; но таковы ли первые стихи г. Бенедиктова? Дай бог, чтобы мое предсказание оказалось ложным и нелепым, чтобы мои основания, которыми я руководствовался в моем суждении, были опровергнуты фактом: мне было бы очень приятно обмануться таким образом! Но до тех пор, пока это не сбудется, я останусь тверд в своем мнении, которое не есть следствие личности или каких-нибудь расчетов, но следствие любви к истине. В заключение скажу, что как ни неестественно обмануться стихами г. Бенедиктова, но изданная им книжка в наше прозаическое время многими может быть принята за поэзию. Словом, если г. Бенедиктов не оставит своих стихотворных занятий, он скоро приобретет себе большой авторитет; его стихи будут приниматься с радостию во всех журналах, во многих будут расхваливаться по крайней мере года два: а что будет после?.. То же, что стало теперь с стихотворцами, которых так много было в прошлом десятилетии и из которых многие обладали талантом повыше г. Бенедиктова… Увы! что делать! Река времени все уносит, все истребляет, и немного, очень немного всплывает на ее сокрушительных волнах!..
Многие из стихотворений г. Бенедиктова очень милы, как весьма справедливо замечено в одном журнале. Их с удовольствием можно прочесть от нечего делать; они не дадут душе поэтического наслаждения, но и не оскорбят, не возмутят ее безвкусием или нелепостию; некоторые даже будут приятны для читателя, как апельсин в летний день или чашка кофе после обеда. Зато есть (хотя и очень немного) и такие, которых бы решительно не следовало печатать. Такова «Наездница»; мы не выписываем его, потому что наша цель доказать истину, а не повредить автору. У кого есть в душе хоть искра эстетического вкуса, а в голове хоть капля здравого смыслу, тот, верно, согласится с нами. Мы не требуем от поэта нравственности; но мы вправе требовать от него грации в самых его шалостях; и, под этим условием, мы ни одного стихотворения г. Языкова не почитаем безнравственным, и, под этим же условием, мы почитаем упомянутое стихотворение г. Бенедиктова очень неблагопристойным, и сверх того видим в нем решительное отсутствие всякого вкуса {5}. То же можно сказать и обо многих местах некоторых других его стихотворений. Мы очень рады, что этот факт может служить подтверждением истины, всеми признанной, что только один истинный талант может быть нравственным в своих произведениях. В поэтических шалостях грация – великое дело, потому что без нее эти шалости могут показаться отвратительными; а эта грация есть удел одного вдохновения. Мы сказали, что некоторые стихотворения г. Бенедиктова очень милы как поэтические игрушки: такими почитаем мы «К Полярной звезде», «Озеро», «Прощание с саблею», «Ореллана», «Незабвенная», «К Н-му», но особенно нам понравилось «Два видения», которое выписываем здесь вполне.
Я дважды любил: две волшебницы-девыСияли мне в жизни средь божьих чудес;Они мне внушали живые напевы,Знакомили душу с блаженством небес.Одну я любил, как слезою печалиЛанита прекрасной была нажжена;Другую, когда ее очи блисталиИ сладко, роскошно смеялась она.Исчезло, чем прежде я был разволнован,Но след волнованья остался во мне;Доныне их образ чудесный закованНа сердце железном в грудной глубине.Когда ж я в глубоком тону размышленьяО темном значеньи грядущего дня, —Незапно меня посещает виденьеОдной из двух дев, чаровавших меня.И первой любви моей дева приходит,Как ангел скорбящий, бледна и грустна,И влажные очи на небо возводит,И к персям, тоскою разбитым, онаКрестом прижимает лилейные руки;Каштановый волос струями разлит…Явление девы, исполненной муки,Мне день благодатный в грядущем сулит.Когда ж мне является дева другая,Черты ее буйным весельем горят,Глаза ее рыщут, как пламя, сверкая,Уста, напрягаясь, как струны, дрожат, —И дева та дико, безумно хохочет,Колышась, ее надрывается грудь:И это виденье мне горе пророчит,Падение терний на жизненный путь.Пред лаской судьбы и грозой ее гневаОдна из предвестниц всегда прилетит;Но редко мне видится первая дева, —Последняя часто мне смехом гремит:И в жизни я вижу не многие розы,Помногу блуждаю в тернистых путях:Но в радостях редких даются мне слезы,При частых страданьях есть хохот в устах.Мы думаем, что это стихотворение может служить лучшим доказательством нашего мнения вообще о стихотворениях г. Бенедиктова.
Примечания
«Телескоп, ч. XXVII, стр. 357–387 (ценз. разр. 24 ноября 1835). Подпись: В. Белинский.
Статья о стихотворениях Бенедиктова – блестящий образец высокой принципиальности Белинского, одним ударом разрушившего авторитет прославленного всеми журналами поэта.
«Появление стихотворений Бенедиктова, – вспоминал впоследствии И. И. Панаев, – произвело страшный гвалт и шум не только в литературном, но и в чиновничьем мире. И литераторы и чиновники петербургские были в экстазе от Бенедиктова. О статьях Полевого и Белинского они отзывались с негодованием и были очень довольны статьею профессора Шевырева, провозгласившего Бенедиктова поэтом мысли. Жуковский, говорят, до того был поражен и восхищен книжечкою Бенедиктова, что несколько дней сряду не расставался с нею и, гуляя по Царскосельскому саду, оглашал воздух бенедиктовскими звуками. Один Пушкин остался хладнокровным, прочитав Бенедиктова, и на вопросы: какого он мнения о новом поэте? ответил, что у него есть превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей; к этому он ничего не прибавил более…» («Литературные воспоминания», 1928, стр. 116).
Другой мемуарист из ближайшего окружения Белинского, И. С. Тургенев, так передает свои впечатления от статьи Белинского: «Стихотворения Бенедиктова появились в 1836 году (это было уже второе: издание) маленькой книжечкой с неизбежной виньеткой на заглавном листе – как теперь ее вижу – и привело в восхищение все общество, всех литераторов, критиков. – всю молодежь. И я не хуже других упивался этими стихотворениями, знал многие наизусть, восторгался «Утесом», «Горами» и даже «Матильдой» на жеребце, гордившейся «усестом красивым и плотным». Вот в одно утро зашел ко мне студент товарищ и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской Беранже появился номер «Телескопа» со статьей Белинского, в которой этот «критикан» осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немедленно отправился к Беранже, прочел всю статью от доски до доски – и, разумеется, также воспылал негодованием. Но – странное дело и во время чтения я после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с «критиканом», находило его доводы убедительными… неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданного впечатления, я старался заглушить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей я с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье… но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что он был прав… Прошло несколько времени – и я уже не читал Бенедиктова» («В. Г. Белинский в воспоминаниях современников», 1929, стр. 206).
Статья Белинского появилась в момент разгоревшихся споров по вопросам современной лирики, в атмосфере все нарастающей полемики с «Московским наблюдателем». Тема лирики была поставлена в статьях Белинского о Баратынском, Бенедиктове, Кольцове, в иронической заметке о «просодической реформе» Шевырева, в пародиях Еврипидина (К. Аксакова) и в примечаниях к ним Белинского. – Все они помещены в XXVII части «Телескопа».
В годы, когда и в лирике Пушкина, и в прозе Гоголя все полнее и богаче раскрывался реалистический метод, Шевырев провозгласил именно Бенедиктова «поэтом мысли». Пушкин же, в трактовке Шевырева, оказывался поэтом форм, описания, пластики, а не мысли и содержания. Этим объясняется то, что в своем ответе Шевыреву (каковым в значительной степени является настоящая статья) Белинский, несмотря на заведомую несоизмеримость Бенедиктова и Пушкина, настойчиво проводит сравнение между ними.
Так как Шевырев и его единомышленники считали себя поборниками «философической поэзии», поэзии «мысли», идеал которой они видели в звонких стихах Бенедиктова, то Белинский поставил перед собой задачу выяснить, что же представляет собою «мысль» в лирике, в частности в стихах Бенедиктова. В результате остроумных наблюдений, тонкого пародийного пересказа стихотворений Бенедиктова ему удается раскрыть их крайнее убожество.
Критик с большой убедительностью показал, что в большинстве стихотворений Бенедиктова отсутствует не только глубокая «мысль», но даже и простой смысл. Пародии К. Аксакова на стихотворения Бенедиктова еще более раскрывали читателю схематизм его псевдофилософской лирики.
В то же время Белинский коснулся и положительного решения проблем подлинно философской лирики. В рецензии на мистерию «Ижорский» (1835) В. Кюхельбекера он делает предупреждение «нашим молодцам», которые начали «тормошить немецкую философию и класть в основу своих изделий философические идеи». Они, заявляет критик, «не знали того, что мысль тогда только поэтична, когда проведена через чувство и облечена в форму действием фантазии, что в противном случае она есть пошлая, холодная бездушная аллегория».
Нераздельное слияние чувства и мысли – основная черта лирического произведения.
К Бенедиктову Белинский будет еще возвращаться время от времени, хотя пустота и бессодержательность его поэзии разоблачены уже в этой статье. В рецензии на издание стихотворений Бенедиктова в 1842 году критик даст более четкое определение социальной природы романтической лирики Бенедиктова: «…поэзия г. Бенедиктова, – писал Белинский, – не поэзия природы, или истории, или народа, – а поэзия средних кружков бюрократического народонаселения Петербурга. Она вполне выразила их, с их любовью и любезностью, с их балами и светскостью, с их чувствами и понятиями, – словом, со всеми их особенностями, и выразила простодушно, восторженно, без всякой иронии, без всякой мрачной мысли» (Полн. собр. соч., т. VII, стр. 500).
Cноски
1
В «Северной пчеле» обвиняют меня, между многими литературными преступлениями, в том, что я называю Шекспира пьяным дикарем. Стыжусь оправдываться в этом перед публикою, и только движимый состраданием к жалкому неведению «С. пчелы», объявляю ей за новость (для нее), что это выражение принадлежит Вольтеру, обокрадывавшему Шекспира, а мною оно употребляется в шутку. Бедная «Пчела», как еще много пустых вещей, недоступных для ее мушиной любознательности! (В. Б.)
2
Боюсь только четвертой части, которой еще не видал и за которую поэтому не отвечаю.
3
«Величие мира». – Ред.
4
Вспомните эти слова отца Земфиры:
Ты для себя лишь хочешь воли.или эти стихи, которыми оканчивается эпилог:
Но счастья нет и между вами,Природы бедные сыны!И под издранными шатрамиЖивут мучительные сны!И ваши сени кочевыеВ пустынях не спаслись от бед,И всюду страсти роковые,И от судеб зашиты нет!5
Из «Борского», поэмы г. Подолинского.
Комментарии
1
Из «Разговора книгопродавца с поэтом».
2
Под «высокоучеными» критиками имеется в виду Шевырев, пытавшийся снизить значение Гоголя.
3
Речь идет о Сенковском, который отказался от своих неумеренных похвал Кукольнику за его драму «Торквато Тассо». Аполог рассказан самим Сенковским в «Библиотеке для чтения», 1835, № 8.
4
«Поэтом мысли» Шевырев называл Бенедиктова в «Московском наблюдателе», 1835, август, кн. I, стр. 440, 443.
5
Стихотворение «Наездница», которое Белинский, чтобы «не повредить автору», даже не цитировал, действительно является верхом безвкусицы.











