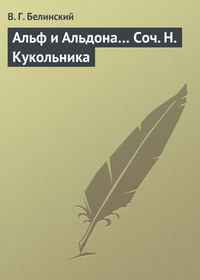Полная версия
Письма (1841–1848)
Размышляя о моих прошлых грехах, в числе которых ты так ложно полагаешь нападки на плюгавого сквернавца Полевого, – я вспомнил о моей ни на чем не основанной ненависти к С<еливановско>му (протоканалье). Из чего мы все вдруг взбеленились на него – разве и прежде мы знали его не таким, каким увидели его после? В нем много эгоизму, бездна самолюбия, маловато чести, нисколько благородства, он мелочен, сплетник, не может быть ничьим другом, а тем менее кого-нибудь из нас, но в нем много доброты природной, он умен, даже не без чувства, не без способности увлекаться (хоть на минуту) мыслию; а главное – он удивительно грациозен и достолюбезен во всех своих мерзостях – это <…> с проблесками человечности. Не его вина, если мы хотели видеть в нем для себя то, чем он ни для кого быть не может. Я бы теперь с удовольствием опять сошелся с ним. Я бы уж держал с ним ухо востро и не позволял бы ему забываться со мною – и мы были бы довольны друг другом. Знаешь ли, что я иногда с умилением вспоминаю о его субботах, куда вместе с порядочными людьми наползали Воскресенские и прочие?{31} Знаешь ли ты, что от одного такого вечера в Питере я бы целую неделю был счастлив? Уж не говорю о вечерах Ст<анкевича> и твоих и не требую их в Питере. О, боже мой, как хорошо я постиг Питер!
* * *Не поверишь, как изумило меня в твоем письме известие о твоем <…> – теперь вижу, что ты мне истинный друг <…>
* * *Пожалуйста, пришли мне несколько сводок перевода Каткова с оригиналом: я буду писать о «Ромео и Юлии» – так, знаешь, безусловные похвалы приятелю, будут похожи на беспристрастие Булгарина к Гречу.{32}
Твоя статья получена,{33} но прочту ее в печати, ибо не люблю читать твою руку (кроме писем), да и Краевский не дал бы, ибо она уже в типографии. Насчет «Отечественных записок» Кронебергу и Бакуниным будет сделано. О стихах Пушкина в альманахе нельзя и говорить обыкновенным человеческим языком, а другого у меня нет. Я понял их насквозь. Такого глубокого и грациозно-деликатного чувства нельзя выразить, как перечтя эти же самые стихи. Но каковы его «Три ключа» в 1 № «Отечественных записок»? – Они убили меня, и я твержу беспрестанно – «Он слаще всех жар сердца утолит».{34} Каково стихотворение Лермонтова в 1 № «Отечественных записок»?{35} Кстати об, «Отечественных записках»: 2 № будет несравненно лучше первого. В отделе наук две статьи – Джемсон и из истории меровингов Тьерри – что глава из исторического романа Вальтера Скотта! Из стихов: «Ночь» и другие Кольцова, «Соседи» и «Песня» Красова, новое стихотворение Лермонтова, присланное с Кавказа – «Пускай она поплачет, ей это ничего не значит», последние стихи этой пьесы насквозь проникнуты леденящим душу неверием в жизнь и во всевозможные отношения, связи и чувства человеческие. Еще стихотворение Пушкина; «Ночь» Кольцова, еще что-то его же; два стихотворения Красова – «Соседи» и «Песня». Повести опять подгадили: будет Гребенки – она, может быть, была бы и порядочна, да цензура наполовину исшельмовала, и совершенно произвольно. Беда с повестями, да и только! «Саламандра» Одоевского – <…> мнимофантастическая. Библиография будет по обыкновению недурна. Критика (стихотворения Лермонтова) – вышла у меня статейка живая, одушевленная, если не хитрая. Смесь будет отличная.{36}
* * *Января 22
Письмо мое остановилось за статьею – нынче только кончил и отнес Кр<аевско>му последние листы – с лишком двадцать листов довольно убористого письма!{37} Теперь совершенно убедился я, что нет никакой возможности писать хорошо для журнала. Мне сдается, что моя статья недурна, – но это – сыромятина, не выделанная, и повторения, и ненужного, лишнего много, и нет последовательности, соответствия между частями, выдержанности в тоне, многое сказано наудачу, необдуманно, многое выражено слабо, темно и пр. Дай мне написать в год три статьи, дай каждую обработать, переделать – ручаюсь, что будет стоить прочтения, будет стоить даже перевода на иностранный язык, в доказательство, что и на Руси кое-что разумеют и умеют человечески говорить; хорошо какому-нибудь Рётшеру издать в год брошюрку, много две. А тут напишешь 5 полулистов, да и шлешь в типографию, а прочие дуешь, как бог велит, а тут еще Краевский стоит с палкою да погоняет. Впрочем, и то сказать, без этой палки я не написал бы никогда ни строки: вот разгадка, почему твоя натура кажется непроизводящею и ты почитаешь себя неспособным к журнальной работе. Останься журнальная работа единственным средством к твоему существованию, ты писал бы не меньше меня и не надивился бы своей способности писать. Так созданы люди. Пушкин был великий поэт, но и вполовину не написал бы столько, если бы родился миллионером и не знал, что такое не иметь иногда в кармане гроша.
Я было недавно пришел в отчаяние от своей неспособности писать: вижу – есть мысль, глубоко понимаю, что хочу сказать, а сказать не могу – слова не повинуются, нужны образы, их не нахожу и поневоле резонерствую. Теперь мне это смешно, и я почитаю себя счастливым, что, напоров листа 3 печатных, вижу, что в них есть страницы три порядочных. До образов ли тут, как валяешь к сроку? Завтра должен кончить побиение книжонок и театральных пьес{38} – дня два погуляю, а там – огромную статью в «Науки» 3 № «О разделении поэзии на роды и виды» и критику – огромную – о Петре Великом, статья, которая лежит у меня на сердце, давит его и просится вон.{39} Между тем (в это же время), надо пробежать тридцать томов Голикова да еще сочинения два, три о царствовании Алексия Михайловича, а там десятка полтора рецензий на книжонки, на театральные пьесы – вот тебе и образы, и последовательность, и пр. Нет, вижу, что надо отложить в сторону претензии и самолюбие и быть предовольным, если умный человек, прочтя мою статью, хоть и не найдет в ней больших хитростей, но не почтет потерянным времени, которое она у него отнимет, и скажет, что прочел с удовольствием.
* * *Чем больше читаю отрывки из «Фауста» (Струговщ<икова>, Веневитинова и др.), тем более уверяюсь, что это – величайшее создание мирового гения.{40} О 2-ой части не говорю: явно, что она вышла из подгнившей рефлексии, полна аллегориями, но и в ней должны быть дивные частности. Поняла, наконец, что такое рефлектированная поэзия – великое дело! Мы не греки:{41} греческий мир существует для нас, как прошедший (хотя и величайший) момент развития человечества, но он не может дать нам полного удовлетворения. Младенчество – прекрасное время, время полноты, но кому 30 лет, наскучит быть с одними детьми, как бы ни любил их.
* * *Странное дело, несколько дней назад вдруг вижу во сне А<лександру> А<лександровну>;{42} она промелькнула, как видение, но так ясно, на меня повеяло всем прошедшим, всею обаятельностию этого чудного фантастического существа, взор ее был печален, окрест ее всё было полно благоухания и грации. Я опять с ней помирился. И как теперь помню, рассуждаю сам с собою во сне: вот я писал к Боткину, что, пожалуй, от нечего делать зафантазирует и обо мне; нет, чорт возьми, как бы самому опять не задурить. И я живо почувствовал эту опасность. Ах, Боткин, мой Боткин, понимаю тебя и твое состояние… Рассуждать легко, а на твоем месте – да что и говорить…
* * *Чем больше думаю, тем яснее вижу, что пребывание в Питере Каткова дало сильный толчок движению моего сознания. Личность его проскользнула по мне, не оставив следа; но его взгляды на многое – право, мне кажется, что они мне больше дали, чем ему самому.
* * *Подбивай Кульчицкого писать для «Отечественных записок». Он мог бы – мне кажется – славные очерки нравов, рассказы легкие писать – это были бы жемчужины в «Смеси».{43} Отчего бы не попробовать ему и повести – ведь Гребенка пишет же, и иногда очень недурные («Верное лекарство», «Кулик», по-моему, славные вещи{44}), а между тем Гребенка преограниченное существо; тогда как наш Кульчицкий – человек. С его гумором, умом, чувством и хохлацкою наивностию он мог бы выработать себе, что называется родом. Грановский, бедный, очень болен – боюсь я за него – он и так хил, а смерть Ст<анкевича> совсем доконала его. Неверов приехал в Питер, но, узнав о болезни Гр<ановского>, поскакал в Москву – то-то добрая душа. Красов прислал мне два письма – две похоронные песни всех надежд жизни, прощание с способностью любить!{45} Увы! Всё это тяжело падает мне на сердце. Прощай. Письмо это надоело мне. Пора кончить. Завтра (23) шлю его в Москву – не знаю, когда-то ты его получишь. Твой
В. Белинский.
Поцелуй милого Казначея; вишь, плут, ускакал в Харьков, а что бы в Питере побывать.{46}
170. А. Н. Струговщикову
<20–29 января 1841 г. Петербург.>
Может быть, и тут, что нужно мне, но ответ Фауста пропущен на странице, которую я нарочно загнул. Как бы то ни было, только сущность дела в том, что Мефистофель предлагает Фаусту одни наслаждения и радости, думая, что человеку ничего другого желать нельзя, но Фауст отвечает ему, что он хочет и страдания, и горя, и радости, и наслаждений – всего, что сродно человеческой натуре, чем живет всё человечество.{47} Если припомните, где это, – очень буду рад; а нет – делать нечего. Во всяком случае Ваш всею душою
В. Белинский.
Раза три перечел Вашу тетрадь и еще хотел бы сто раз перечесть. Хор духов и речитатив Мефистофеля (мои дружки) чудо как хороши. Помоги Вам бог поскорее перевести всего «Фауста» – это будет перевод, а не то, чем плюнул на публику Губер.{48}
171. В. П. Боткину
1841, марта 1, СПб
Сейчас получил письмо твое,{49} любезнейший Василий Петрович, и сейчас же заставил себя отвечать на него. У меня есть гнусная привычка – писать много, подробно, отчетливо и пр. и пр. – этим я лишаю тебя удовольствия часто получать мои письма, а себя – часто беседовать с тобою, ибо писать много – надо время и большие сборы. Отрывок из «Hallische Jahrbücher»[3] меня очень порадовал и даже как будто воскресил и укрепил на минуту – спасибо тебе за него, сто раз спасибо. Я давно уже подозревал, что философия Гегеля – только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов ни к <…> не годится, что лучше умереть, чем помириться с ними. Это я сбирался писать к тебе до получения твоего этого письма. Глупцы врут, говоря, что Г<егель> превратил жизнь в мертвые схемы; но это правда, что он из явлений жизни сделал тени, сцепившиеся костяными руками и пляшущие на воздухе, над кладбищем.{50} Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его, как старые штаны. Я имею особенно важные причины злиться на Г<егеля>, ибо чувствую, что был верен ему (в ощущении), мирясь с расейскою действительностию, хваля Загоскина и подобные гнусности и ненавидя Шиллера. В отношении к последнему я был еще последовательнее самого Г<егеля>, хотя и глупее Менцеля. Все толки Г<егеля> о нравственности – вздор сущий, ибо в объективном царстве мысли нет нравственности, как и в объективной религии (как, например, в индийском пантеизме, где Брама и Шива – равно боги, т. е., где добро и зло имеют равную автономию). Ты – я знаю – будешь надо мною смеяться, о лысый! – но смейся как хочешь; а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здравия китайского императора (т. е. гегелевской Allgemeinheit[4]). Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лествицы развития, – а споткнешься – падай – чорт с тобою – таковский и был сукин сын… Благодарю покорно, Егор Федорыч, – кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лествицы развития, – я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братии по крови, – костей от костей моих и плоти от плоти моея. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии; может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии. Впрочем, если писать об этом всё, и конца не будет. Выписка из Эхтермейера порадовала меня, как энергическая стукушка по философскому колпаку Г<егеля>, как факт, доказывающий, что и немцам предстоит возможность сделаться людьми, человеками и перестать быть немцами. Но собственно для меня тут не всё утешительно. Я из числа людей, которые на всех вещах видят хвост дьявола,{51} – и это, кажется, мое последнее миросозерцание, с которым я и умру. Впрочем, я от этого страдаю, но не стыжусь этого. Человек сам по себе ничего не знает – всё дело от очков, которые надевает на него не зависящее от его воли расположение его духа, каприз его натуры. Год назад я думал диаметрально противоположно тому, как думаю теперь, – и, право, я не знаю, счастие или несчастие для меня то, что для меня думать и чувствовать, понимать и страдать – одно и то же. Вот где должно бояться фанатизма. Знаешь ли, что я теперешний болезненно ненавижу себя прошедшего, и если бы имел силу и власть, – то горе бы тем, которые теперь – то, чем я был назад тому год. Будешь видеть на всем хвост дьявола, когда видишь себя живого в саване и в гробе, с связанными назади руками. Что мне в том, что я уверен, что разумность восторжествует, что в будущем будет хорошо, если судьба велела мне быть свидетелем торжества случайности, неразумия, животной силы? Что мне в том, что моим или твоим детям будет хорошо, если мне скверно и если не моя вина в том, что мне скверно? Не прикажешь ли уйти в себя? Нет, лучше умереть, лучше быть живым трупом! Выздоровление! Да в чем же оно? Слова! слова! слова!{52} Ты пишешь ко мне, что излюбил свою любовь? и утратил способность любви; Красов пишет о том же;{53} я в себе чувствую то же; филистеры, люди пошлой непосредственной действительности, смеются над нами, торжествуют свою победу… О, горе, горе, горе!{54} Но об этом после. Боюсь, что ты меня не утешишь, а я тебя огорчу.
Хорошо прусское правительство, в котором мы мнили видеть идеал разумного правительства! Да что и говорить – подлецы, тираны человечества! Член тройственного союза палачей свободы и разума.{55} Вот тебе и Гегель! В этом отношении Менцель умнее Г<егеля>, а о Гейне нечего и говорить! (Кстати: Анненков пишет, что 8 томов Гейне в Гамбурге стоят 7 червонцев).{56} Разумнейшее правительство в С<еверо>-А<мериканских> Шт<атах>, а после них в Англии и Франции.
Что касается до истории К<атко>ва,{57} то, кажется, вижу теперь причину, почему мы не можем согласиться: я даже и от самого него мало знаю о ней, следовательно, не имею фактов для суждения. Что до Полевого, – согласен с тобою; но откуда же были у него во время оно энергия характера, сила воли?
В прошедшем я высоко ценю этого человека. Он сделал великое дело – он лицо историческое.{58} Теперь о моей статье. Ты не понял, что я разумею под «слогом К<атко>ва». Это определенность, состоящая в образности. Я мог бы подкрепить это выпискою, но лень. Что до Кудрявцева, то миллион раз согласен с тобою насчет его слога; но тем не менее, спокойствие не для меня. Мне нужно то, в чем видно состояние духа человека, когда он захлебывается волнами трепетного восторга и заливает ими читателя, не давая ему опомниться. Понимаешь! А этого-то и нет, – и вот почему у меня много реторики (что ты весьма справедливо заметил и что я давно уже и сам сознал). Когда ты наткнешься в моей статье на реторические места, то возьми карандаш и подпиши: здесь бы должен быть пафос, но по бедности в оном автора, о читатель! будь доволен и реторическою водою. Но отсутствие единства и полноты в моих статьях единственно оттого, что второй лист их пишется, когда первого уже правится корректура. Рассуди сам, Боткин: какого чорта на это станет? Иногда и письмо, чтоб оно было поскладнее, надо просмотреть, перечеркать и переписать. В 3 № «Отечественных записок» ты найдешь мою статью{59} – истинное чудовище! пожалуйста, не брани, сам знаю, что дрянь. Чувствую, что я голова не логическая, не систематическая, а взялся за дело, требующее строжайшей последовательности, метода и крепкой мыслительности. К<атко>в оставил мне свои тетрадки{60} – я из них целиком брал места и вставлял в свою статью. О лирической поэзии почти всё его слово в слово. Вышло что-то неуклюжее и пестрое. Впрочем, – что же! Если я не дам теории поэзии, то убью старые, убью наповал наши реторики, пиитики и эстетики, – а это разве шутка? И потому охотно отдаю на поругание честное имя свое. Но вот что досадно до того, что я одну ночь дурно спал: свинья, халуй – семинарист Никитенко (иначе Осленко) вымарал два лучшие места: одно о трагедии; выписываю тебе его. После того, как я вру о «Ромео и Юлии» и вранье свое заключаю словами: «О горе, горе, горе!» – после этого вот бы что читал ты в статье, если бы не оный часто проклинаемый мною Подленко:{61} «Нас возмущает преступление Макбета и демонская натура его жены; но если бы спросить первого, как он совершил свой злодейский поступок, он, верно, ответил бы: «И сам не знаю»; а если бы спросить вторую, зачем она так нечеловечески ужасно создана, она, верно, бы отвечала, что знает об этом столько же, сколько и вопрошающие, и что если следовала своей натуре, так это потому, что не имела другой… Вот вопросы, которые решаются только за гробом, вот царство рока, вот сфера трагедии!.. Ричард II возбуждает в нас к себе неприязненное чувство своими поступками, унизительными для короля. Но вот Болингброк похищает у него корону – и недостойный король, пока царствовал, является великим королем, когда лишился царства. Он уходит в сознание величия своего сана, святости своего помазания, законности своих прав, – и мудрые речи, полные высоких мыслей, бурным потоком льются из его уст, а действия обнаруживают великую душу, царственное достоинство. Вы уже не просто уважаете его – вы благоговеете перед ним; вы уже не просто жалеете о нем – вы сострадаете ему. Ничтожный в счастии, великий в несчастии – он герой в ваших глазах. Но для того, чтобы вызвать наружу все силы своего духа, чтобы стать героем, ему нужно было испить до дна чашу бедствия и погибнуть… Какое противоречие и какой богатый предмет для трагедии, а следовательно, и какой неисчерпаемый источник высокого наслаждения для нас!..»{62}
Второе место о «Горе от ума»: я было сказал, что расейская действительность гнусна и что комедия Грибоедова была оплеухою по ее роже.
А вот тебе ответ на письмо из Харькова, от 22 января{63} (я человек аккуратный). Видишь ли ты что: я читаю в твоем сердце за 700 и за 1500 верст: я знал, с какими фантазиишками ты поехал в Харьков и с каким носом воротился оттуда – следовательно, в твоем письме по сей части ничего нового для меня нет. Чорт знает, должно быть, или мы испорчены, или поэзия врет о жизни, клеплет на действительность… но тс! молчание! молчание!..{64} Знаешь ли: ведь я-то еще смешнее тебя в рассуждении сего города, стоящего при реке Харькове и Лопати (кои впадают в реку Уды, а сия в Донец – см. «Краткое землеописание Российской империи», стр. 109), ведь я даже и не видел его, а между тем могу сказать, под каким градусом северной широты стоит он и что в нем особенно примечательного… но тс! молчание! молчание!.. Впрочем, хороши мы оба, и при свидании потешимся друг над другом.{65} А между тем всё сие и оное весьма понятно: страшно скучно жить одному. Чтоб делать что-нибудь и не терзаться, я должен по целым дням сидеть дома; а то, возвращаясь к себе вечером и смотря на темные окна моей квартиры, я чувствую внутри себя плач и скрежет зубов… Ужасная мерзость жизнь человеческая!
Теперь о Мисс Джемсон: вот женщина-то! Только теперь понял, что такое гениальная женщина. О Юлии бесподобно, дивно, но Офелия всё заслонила и убила собою – лучшего по части критики я не читал ни во сне, ни наяву с тех пор, как– родился. Твой Рётшер – <…> перед этим очерком Офелии, сделанным женскою рукою, – педант, немец, филистер, гофрат. Джемсон бросила для меня свет и на характер Гамлета и на идею всей этой драмы – величайшего (т. е. субъективнейшего) создания Шекспира. Да, книга этой англичанки – жестокая оплеуха критическим колпакам немцев, не исключая и самого Гёте, который более всех – живой критик. Повторяю: как ни прекрасен очерк характера Юлии, но после Офелии не могу и помнить его и думать о нем. О боже великий – Офелия!.. Эпиграф из Пушкина кстати и многознаменателен. Но, любезный Боткин, переводом я не совсем доволен: он отзывается какою-то тяжеловатостию, как будто делан с немецкого; короче: это превосходнейший перевод (критики) рётшеровой, но не Джемсон (женщины и англичанки) перевод.{66} Немцы губят тебя, похоже на то, как они губят Каткова – я долгом поставляю предупредить тебя об опасности. Мое мнение разделяют все. Панаев высказал его еще прежде, чем я прочел статью. И знаешь ли что: не так досадно было бы видеть еще большие и важнейшие недостатки в переводе от слабого знания обоих языков, неумения или неспособности переводить, чем тот, о котором я говорю. Ты онеметчил и орётшерил свой слог. Всего больше сбивает тебя с толку Рётшер.{67} Ну, чорт возьми! выскажу же наконец, что давно кипит в душе моей. В этом человеке много духа – не спорю; но в нем тоже много и филистерства. Он толкует всё одно и то же. Его уважение к субстанциальным элементам общества (родству и браку) для меня омерзительно. Ну скажи, бога ради, есть ли тут смыслу хоть на грош: вот ты, например, имел от своей гризетки ребенка, о котором забыл и не вспоминал – неужели же ты чудовище, вроде дочерей Лира? А брак, как видим мы его ежедневно? Им держится государство, но в лице толпы презренной, черни подлой. Как же он, сукин сын, хочет, чтоб я, не смеясь и не плюя в его филистерскую рожу, слушал, как он рассыпается в гимнах родству и браку? Всё, что есть, действительно, и всё, что действительно, есть разумно, да не всё то есть, что есть. Мой <…> и моя <…> суть, но я о них не говорил не только человечеству, даже расейской публике, хотя с ней только о подобных предметах и можно говорить. Твои и мои родители были обвенчаны в церкви божией, но мы с тобою тем не менее – незаконные дети, тогда как всякий сын любви есть законное дитя. Одним словом, – к дьяволу все субстанциальные силы, все предания, все чувства и ощущения, да здравствует один разум и отрицание! Французы – молодцы: у них брак – контракт в конторе нотариуса; квакеры – молодцы: у них священнослужение – проповедь в комнате; С<еверо>-А<мериканские> Штаты – идеал государства. Да здравствует разум и отрицание! К дьяволу предание, формы и обряды! Проклятие и гибель думающим иначе! Но об этом после – чувствую, что без драки не обойдется.
О Офелия, о бледная красота севера, голубка, погибшая в вихре грозы!.. Мочи нет – слезы рвутся из глаз. Стыдно – у меня теперь в комнате сидит чиновник, мой родственник – человек предания и субстанциальных стихий общества.{68}
Ты пишешь, что ты плохой судья моих статей.{69} Эта фраза облила мое сердце теплым елеем любви и счастия. Да, чорт возьми! строгих судей мы найдем себе, найдем и таких, которые полюбят нас за статьи, но которые любят статьи наши за нас, а нас за статьи наши – таких немного найдем. Пусть любовь к истине борется в нас с любовию к личности один другого, и да не побеждают совершенно ни та, ни другая сторона, и да будет благословен святой и человечный союз наш! Ты у меня один – верь, что и я у тебя один: это сознание много дает мне – оно не всё, но нечто, а без него было бы ровное ничто. Вот и третья неделя поста прошла – скоро праздник весны и праздник свидания. Расставшись детьми, встретимся если не мужами, то юношами, которые уже не шутя задумались над жизнью. Послушай: если ты умный человек, а не чорт знает что, ты, верно, сядешь в дилижанс на второй день праздника, в понедельник, а в четверг я обниму тебя! Правда? Ведь праздник самое скучное время – и что тебе в нем?
* * *Перевод гётевской пьесы Кронеберга был бы прекрасен, если б не был испорчен словом любя́щим, вместо лю́бящим. Как ты не заметил ему этого?{70}
* * *Вчера видел всю ночь Станкевича – будто он не умер, а только с ума сошел. Странное дело: вот уже во второй раз вижу этот нелепый сон.
* * *Поклонись за меня Красову в ноги – я изгадил его пьесу «Соседи». Читаю и натыкаюсь на стих: «Ус крутой следя безбожно».{71} – «Что за галиматья, Краевский?» – «Да у вас так». Смотрю – точно. Я часто и в чтении перевираю стихи, например, вместо: «И что прощать святое право страданьем куплено тобой» я часто читаю: «И что страдать святое право прощаньем куплено тобой».{72} В письме же я беспрестанно делаю такие описки. Прости и помилуй, любезнейший Василий Иванович! Чувствую, что виноват, как свинья. В следующей книжке будет сделана поправка в опечатках. Кстати: скажи ему: писать и лень и некогда. В Питер ехать не советую – пропадет. На Од<оевского> надежда плохая, а на Жук<овского> и говорить нечего. В Москве его знают, а в Питере он не найдет и уроков.{73}