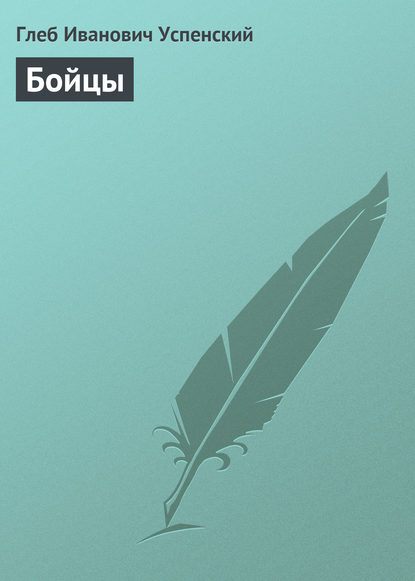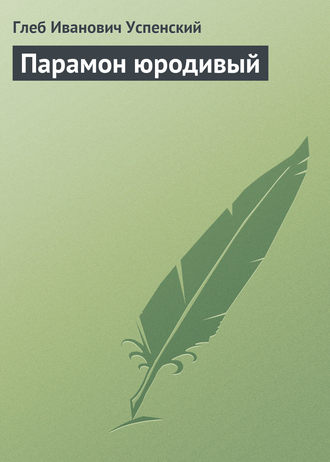 полная версия
полная версияПарамон юродивый
Что такое случилось? Кто-то застучал ночью с улицы в калитку. Не случилось больше ровно ничего, а между там мы, и взрослые и дети, ждали неприятности и все перепугались. Мы не то чтобы знали, а всем своим составом чувствовали, что не пройдет минуты, как мы окажемся в чем-нибудь необыкновенно подлы, словом – узнаем нечто такое, что нас прямо бьет по лицу, тыкает этим лицом, да и не лицом даже, а «рылом», рылом-то тыкает в землю, кому-то под ноги.
Точно на смерть, как истинный герой, решившийся тотчас, сию минуту, сложить свои кости, тронулся, наконец, на этот стук мой дядя. Он пошел быстро, не оглядываясь, и мы, оставшись в саду, понимали, что он «решился», что он пошел так потому, что сказал себе: «Во всем воля божия, пропадать так пропадать!..»
И, не изменяя своей отчаянной походки, дядя прошел сад и скрылся в дали двора, в темноте. Некоторое время не было слышно ни единого звука. Собаки примолкли – они были одной с нами школы. Мы замерли. Ни звука. Всякий слышал биение своего сердца и шум крови в ушах, всякий из нас «покорился и ждал», так как по уходе дяди испуг перешел уже в явное сознание угрожающей опасности, опасности неминуемой, которая висит над нашими головами; никто уже не сомневался, что это – опасность, и всякий «покорился и ждал».
Идут! Идут по дорожке двое, один – дядя, другой… не разберем, кто такой этот другой?.. Разговаривают о чем-то…
– Помилуйте! – слышно убедительно-низкопоклонное и нищенски-умоляющее слово дяди…
«Так!» тупым тяжелым ударом отдается это у нас в сердце… А дядя и неизвестная фигура, которая пришла ночью и ни с того ни с сего заставила немедленно просить у себя помилования, эта фигура приближалась.
– Это насчет Парамона…. – произносит дядя топотом, ровняясь с нашей окаменевшей группой, и прибавляет: – Ничего!
Фигура оказалась квартальным.
– Он тут какие-то лекарства дает?… – говорила фигура спокойным, как говорят опытные доктора, тоном: – давно ли он у вас?..
Мы все тотчас «сознали», что виноваты, так как Парамон поселился у нас давно…
– Н… н… н… – дребезжал дядя…
– Паспорт есть у него?
Едва было сказано это слово, мы мгновенно и искреннейше узнали, что мы не только виноваты, но и глупы… «Об аде да об рае толковали… а паспорт? Где у него паспорт, у Парамона? Без паспорта – так и святой?..» И тысячи подобных вопросов каждое мгновение пробегали в нашем сознании, все более и более определявшемся. «Как мы, глупые, могли забыть этот паспорт! Разве это ничего не значит? Паспорт-то забыть! Беспаспортный, и ангелы являются! Ангелы! Паспорт-то где?» И нам казалось, что и ангелы-то, заслышав этот вопрос: «а где паспорт?», разлетаются от Парамона кто куда, точно испугавшись и одумавшись. А это действительно отлетал от нас ангел пробужденного сознания! Да! мы, дети, уж больше могли любить только то, что нас бьет, давит, чем то, что дает нам право свободно дышать и жить. В одно мгновение, от одного появления квартального, от двух его жестоких вопросов, мы уж считали квартального «настоящим», а Парамона и все, что принесено им, – не «настоящим», во всяком случае неравносильным с значением квартального.
– Позвольте-ко взглянуть, где он у вас?.. – так же, как доктор о пациенте, спросил квартальный и сделал шаг вперед.
– Не сюда-с! – поспешил предупредить дядя и торопливо повел ночного гостя в другую сторону, к беседке. Все, что дал нам Парамон своим присутствием, все доброе, светлое, чистое, невинное, простое, душевное, словом, все, что мы пережили вместе с ним благодаря ему, – все на мгновение воскресло в каждом из нас, и слезы душили всех. Парамон воскрес в нас вновь, во всей божественной, неземной красоте, и до чего было в нем хорошо все, решительно все, от ног, грязных и в болячках, до волос, висевших длинными нерасчесанными прядями, – я не могу, не в силах передать теперь! Мы чуяли, что потеряли все это, чуяли опять предстоящую нам тьму. Эта тьма так была ужасна, что у нас, у ребят, вдруг захватило дыхание сильнейшею судорогою слез. Мы побежали, не могли оставаться и сидеть, но подойти к самой беседке не могли – не то что боялись, а просто «не могли», как не можешь отрубить себе пальца…
Видим: у Парамона огонь; стучат к нему; стучит дядя. – «Кто-о-о?..» – «Я, я! – кротко, но фальшиво, как подкрадывающийся вор, шепчет дядя. – Отвори-ко!..» – «Господи Иисусе… о-о-о…» «Устал Парамон на молитве, – думаем мы, – задремал было, бедный!» Долго не отворяет он. Мы знаем, что он не может скоро подняться, если только лег или стоит на коленях; знаем, что у него к ночи все болит, ноет спина, руки и ноги… Мы знаем, как он, поднимаясь, захлебывается от жгучей боли язв; мы знаем, как неожидан для него, бедного, измученного, этот гость; знаем, жалеем, ужасно жалеем, но не менее боимся и этого гостя. Нам было жаль Парамона, жаль всей душой, и мы боялись, как бы нежданный гость, наскучив ждать, покуда он отворит, не застучал бы в дверь кулаком… Но когда в самом деле прошло еще минуты две-три, а Парамон не отворял, ощущения наши изменились: мы уж только боялись, как бы не рассердился гость. «Ну же, ну, Парамон Иваныч!» – уж с некоторым нетерпением в голосе произнес дядя, после того как гость громко кашлянул. А после этого кашля мы уж почти обижались на Парамона… «Эк копается!» – прошептал кучер, который, как и мы, жалел Парамона две минуты назад…
«O-ox-х!» – слышалось из глубины беседки; слышались тяжелые, редкие-редкие шаги Парамона, но дверь не отворялась. Гость, наконец, застучал-таки, а мы, как только он загрохотал кулаком в дверь, уж все были недовольны Парамоном, его невежеством. Мы уж забыли, что его ждет горе, а думали о том, как это он заставляет ждать это горе, это неожиданное несчастие? Почему это мы полагали, что гость прав, придя разорять гнездо измученного человека, а измученный человек неправ, заставляя подождать своего разорения? Несомненно, что у всех нас было сердце, но сердце это уже поколениями приучено считать худое – правдой и основой жизни, все приносящее несчастие, притесняющее – настоящим, стоящим, а простое, доброе, незлобивое и светлое – хоть и хорошим, но не особенно важным сравнительно с первым.
Парамон, наконец, отворил дверь.
– Чево тут?.. Ты, что ль – Иваныч?.. – как труднобольной, еле поднявшийся с постели, говорил он… Он, очевидно, устал и только что задремал; у него, по всей вероятности, ныло все тело.
– Вот… тут, – начал дядя: – к тебе!..
– А-а? О-ох, владыко живота моего! Чево-о?
– Вот тут…
– Тут есть до вас дело, – перебил гость, – позвольте войти.
– Войди, войди! – крестясь и, видимо, ничего не подозревая, проговорил Парамон и еле поплелся от двери.
Вошли. Приблизились к беседке и мы…
Парамон, добравшись до кровати (голые доски), сел, опершись ладонями в эти доски, и, слабо охая, опустил голову на грудь.
Мы думали, что он «испугается», и ждали испуга. Нет! Парамон только охает…
– Вы откуда родом? – оглядывая стены, увешанные картинами, спросил квартальный и, поглядев на всевидящее око, глянул на дядю. Дядя глянул в открытую дверь, а мы глянули друг на друга. – «Что настряпали?» – говорил нам взгляд дяди. «Не я один – и ты!» – взглядывая друг на друга, говорили мы и сознавали, что поступили преступно.
Это все – дело одного мгновения.
– Родом откуда вы? ваше звание?..
– Чево хочешь? – ничуть не пугаясь и даже не думая взглянуть и рассмотреть хорошенько пришедшего, произнес, охая, Парамон.
– Родом, родом откуда, какой губернии?
– Родо-ом?.. Кур – о-ох ты, мать пресвятая!.. Кур-о-ох! погоди-погоди!..
Парамон, всхлипывая от боли в спине, осторожно поводил плечами, желая подвести под вериги здоровые, не изъязвленные места тела.
– Курский, брат, о-ох, курский…
И опять помолчал и поохал.
– А волость наша – Почиваловская… Аль сам-то курский?..
– Полиция получила бумагу о разыскании беглого крестьянина Почиваловской волости, Парамона Денисова… Ты Парамон Денисов?
– Денисов? я!
– Парамон?
– ….. Парамон! Парамон, брат, Парамон!
– Женат?
– Был женат, а вот уж восьмой год разженился.
– То есть семью бросил?
– Мне глас был…
И ни капли не испугался, даже тона допрашивающего не замечал, а говорил как всегда и со всеми.
– Разженился, братец ты мой! Сподобил меня господь…
– Паспорта нет?
– И-и! как-кие паспорты!.. Чево там… на что мне!.. У меня паспорт господний… не надо мне этого!
Сказано было все. Все замолчали на минуту.
– Испужался я!.. – ласково глянув на дядю, проговорил Парамон: – застукал ты, испужался… Думал, уж не черненький ли (так Парамон называл бесов) – балует тут… ан это ты пришел… Побудь. Ладно у меня тут-то… Дай бог тебе, успокоил меня!
«Ведь подводит нас всех под обух!» – подумали мы единодушно и решительно вознегодовали на дурость Парамона… Но главное, что охладило к нему, – это именно его безбоязненная уверенность в своей правоте. Испугайся он, засуетись, начни врать, кланяться, – мы бы поняли его. Но видя, что он ничего не делает, ни капли не боится, а просто и без всякого сомнения в себе, в своем положении и поведении продолжает верить в свое дело, – это сделало нас совершенно равнодушными к его положению: мы «не могли» понимать такой верности самому себе, она нам казалась глупостью. Посудите: пришли из полиции, разыскивают, спрашивают паспорт, а он говорит: «мне глас был!» Вот сию минуту его «возьмут в темную», а он говорит – «побудь, побудь, посиди!», точно в самом деле гостей принимает. Тут человек еле дышит, боится, как бы его не притянули к делу за то, что дал приют беспаспортному, а беспаспортный, как на грех, «ляпнул» при «самом» квартальном: «это ты меня успокоил». Ну не разиня ли? Ну, что бы ему испугаться, заерзать «по земи», если нужно, на коленках, попросить прощения, дать взятку (наверно, припрятывает деньги-то! внезапно осенило нас), а он болтает бог знает что, да еще без паспорта, да других подводит! Бог с ними – с этими святыми!.. только беды наживешь!
Это не только взрослые и опытные думали, но и мы, дети, так широко осчастливленные Парамоном, и мы чувствовали, что бог с ними, с этими святыми: только беды наживешь!..
– Как же теперь? – тихо сказал квартальный дяде. – Ведь надо его отвести…
– Парамон Иваныч!.. – окликнул Парамона дядя.
– Что, золотой?
– Вот они говорят, нельзя, мол…
– На место жительства, – прибавил квартальный, – вас требуют.
Парамон поднял голову…
– Меня, что ли?..
– Да, – продолжал дядя, – вас требуют на место жительства…
– Ну во-от! Что мне там!
– Нельзя!.. Требуют!
– А пущай!
– Да нельзя же ведь!.. – уж с нетерпением произнес дядя.
– Чево там – нельзя… ну!..
Это неуважение к «нельзя», которое мы почитали еще в утробе матерей наших, просто взбесило всех; даже нас, детей, взбесило. «Как «пущай»? – обиженно думали Мы. – Начальство требует, а ты – «пущай»!»
– Что – «ну!» – обидевшись, проговорил квартальный. – Что тут «ну»? Когда требуют – так тут нечего нукать…
Парамон ничуть все-таки не испугался, а не умел понять, что ему говорят, и робко ответил:
– Ну господь тебя помилуй… Ничего! Что там!
– Опять-таки не «ничего», а требуют по этапу, домой! – произнес квартальный, мало-помалу входя в аппетит притеснения.
– По этапу, Парамон Иваныч! – пояснил дядя.
При словах «по этапу» мы опять стали все жалеть Парамона…
– Пущай! – опять ответил Парамон, ответил так, не понимая, и опять мы перестали его жалеть… Хоть бы тут-то он испугался! Или хотя бы тут-то понял, что он «ничтожество»!
– Ну, – проворно заговорил квартальный: – разговаривать тут нечего! Я должен тебя взять с собой…
– Где живешь-то? – простодушно спросил Парамон.
– Вот изволь собираться, и пойдем. Там узнаешь.
– Ох, трудненько, трудненько… пущай бы утречком прибежал! За семейку помолился бы.
– Ведь это вас в часть ведут, Парамон Иваныч! – пояснял дядя, явно негодуя на глупое предложение молиться в части. «Часть – это вещь серьезная; должен же ты понять, что там не до твоих глупостей!» – вот что, казалось, хотел он сказать своей фразой.
– Ну что ж, эко! – отвечал Парамон. – Помолюсь, ничего… Добрый человек… Все люди, все человеки…
Говоря это, Парамон, очевидно, и не думал идти.
– Ведь сейчас надо! – опять нетерпеливо пояснял дядя.
– О-х, сейчас-то!.. Чего уж? Утречком добегу…
«Что ты будешь делать с этакой дубиной!» – подумали и почувствовали все мы, не исключая и квартального.
– Ну вот что!.. – не вытерпел квартальный. – До завтра он останется здесь…
– Слышишь, Парамон Иваныч! Остаешься до завтра! – сказал дядя.
– Утречком, утречком!
– Остается под вашей ответственностью. Все, что здесь есть (квартальный указал на стены), все должно так и остаться до завтра, до моего прихода… Изволите слышать?
– Пом-милуйте!..
– Завтра будет составлен протокол… Что это, – часовня, что ли, у вас? – вновь оглядывая беседку, произнес квартальный.
– Помилуйте, господин надзиратель! Рябятишки… баловство, больше ничего!
– Сколько времени он у вас живет? Отчего вы не донесли в полицию, что у вас беспаспортный?..
– Господин надзиратель…
– Хорошо-с! Завтра все разберем… Так чтобы все как вот теперь, все чтоб осталось. Я все помню.
Надзиратель, очевидно, стоял на твердой почве, чувствовал себя легко, свободно, знал, что его дело сделано, и попирал нас всех каждым своим вопросом, каждым словом. Дядя в ответ ему испускал только полуслова – «пом-ми…», «господин надзир…», опять «пом…», «будьте покойны; будддте покойны!» и т. д.
– Ну, со Христом! По домам, ребятушки! – неожиданно произнес Парамон: – поздно-о! Поздненько! Немогута!.. Со Христом, ступайте! отдохнуть надо мне, окаянному…
– Ладно, ладно, отдохнем, не беспокойся! – не спеша направляясь к двери, проговорил квартальный.
– Ну, спаси-те Христос!.. Устал ведь!..
– Хорошо-хорошо… Так до завтра!.. Квартальный спустился со ступеньки крыльца в сад.
Дядя пошел вслед за ним.
По уходе дяди и квартального мы, дети, и некоторые из домочадцев продолжали оставаться в саду. Всем стало легче, когда кончилась эта сцена, но в то же время все мы чувствовали, что теперь, после того как ушел незваный гость, мы уж стали не те, какими были до его прихода. Парамон, как и всегда, сидит в своей беседке; как всегда, огонек лампадки чуть светит из-за занавески, и беседка была та же самая, что и пять, десять минут назад (вся сцена продолжалась не больше десяти минут); все было то же самое – и Парамон, и небо, и воздух, – но мы были уже не те. В десять минут мы позволили пережить нашему сознанию и сердцу такие скверные ощущения, такие гадкие чувства, такие подлые предательские мысли, и притом в эти десять минут таких скверных и гнусных мыслей и чувств обнаружилось в нас так много, их такое открылось обилие в недрах нашего сознания и сердца, что все, так недавно близкое, родное нам – Парамон, беседка и небо, – было теперь ужас как далеко от нас! Между нами была наша измена, внезапная и глубокая; отделаться, изгладить ее следы не было никакой возможности: измена шла, помимо нас, из глубины сердца… Мы узнали, чего не знали прежде, что мы – истинное ничтожество, узнали это теперь в глубине своего сердца…
Горели звезды в небе, благоухал воздух, ангелы приходили, как и всегда, к беседке Парамона, – а мы уж и не смели ни думать об этом, ни наслаждаться, ни радоваться…
Мы теперь чувствовали себя предателями!
Темное, холодное и унизительное вошло тогда что-то в наше детское сознание, а главное – в сердце. Мне лично казалось, когда ушел квартальный, что я как-то даже ростом стал меньше и с боков съежился, точно кто меня окорнал по краям и охолодил все мое нутро.
– Будет шататься-то! – не входя в сад, со двора закричал дядя. – Дошатались вот… пошли спать.
Он был вне себя.
Все разбрелись по своим местам, чувствуя себя преступниками, изменниками… Я спал, завернувшись одеялом с головой и испытывая впервые вполне сознательно полную безнадежность моего существования. После этого я – чужой всему, никому не нужный и себя не уважающий человек. Я уж знал с этого дня, что себя я не могу ценить ни во что: факт был налицо. С этого вечера я стал страдать бессонницей и, утомленный, засыпал тяжело, точно опускали меня в темную, сырую, холодную, бездонную яму…
Проснувшись поутру, мы узнали, что Парамона уже нет в нашем доме.
Пусто и холодно стало нам; но благодаря дяде эта пустота была тотчас замещена чем-то другим. Этот бедный человек, попавшийся в беду самым положительным образом (протокол, мы узнали, был уж составлен), терзался больше нас всех; больше нас всех он чувствовал себя предателем, изменником и одновременно с этим негодовал на себя, как на дурака, позволившего себе увлечься на старости лет какими-то посторонними интересами. «Дурак! Старый дурак!», «Подлец! Предатель!» одновременно разрывало его душу. «Отчего ты не заперся? Чего ты испугался? Сунул бы ему красную! Человек-то цел бы был… Связался с беспаспортным!.. Угодники! вертись вот за них… Святой человек!.. Пальцы жжет… а теперь вот, поди-ка, с протоколом-то!..»
– Что вы тут дрыхнете до двенадцатого часу? – истерзавшись от сознания и глупости и низости своей, закричал он, войдя в комнату, где мы, дети, спали. – Пошли в беседку!.. Сейчас вставать!..
Он шатался по всему дому, орал на всех и на все…
Мы не только не сердились на него, на этот крик и брань, но жалели его, зная, как ему скверно на душе и что он именно от этого и мечется и бесится.
– Погоди, разбойник, – кричал он на дворе на кучера. – Я вот увижу барина, я ему про тебя… пусть вспишут! Кан-налья этакая!.. Кш! Что вы распустили тут кур? дурье этакое! – неимоверно возвышая голос и очевидно желая проникнуть им со двора в самую глубь дома, продолжал он, – я вот доберусь до вас, разини! Эй, где вы там!..
Мы оделись, бегом побежали в сад, в беседку, как приказал нам дядя. Не добежав до нее, мы слышали, как он что-то там уронил на пол, потом что-то выбросил на дорожку, не переставая ругаться.
– Что рты разинули? – завопил он, завидев нас. – Настряпали делов? В гимназию ходить – «болен», а болтаться мастер? Ничего, погоди! я вас приведу к одному знаменателю… Возьми метлу-то, дубина!
Ругался он и рвал со стен беседки картинки, которые мы наклеивали с такою любовию.
– Ммон-нахи! Как же!.. подвижники тут завелись!.. порросята этакие! взодрать хорошенько!.. инспектору вот!..
…И ангелы, бесы, подвижники… все это клочьями валилось со стен и проворно, при содействии нас, детей, метлами выметалось из беседки. Из наших светлых ощущений вырастали кучи сора под нашими же руками, и скоро ничего, кроме этой кучи у порога беседки и пол-всевидящего ока на потолке, не осталось от светлого эпизода нашей жизни… Пол-всевидящего ока, то есть полглаза, и потом голые доски – этот уцелевший кусок прошлого – особенно как-то успокаивал нас в нашем унизительном положении. Разодранное, оно хоть и глядело чуть-чуть и половиною зрачка, но торчавший из-за него лоскут с гербом (на подклейку шли казенные бумаги) и потом доски уничтожали все впечатление смотрящего глаза и практически удостоверяли нас, что оно едва ли что видит: «бумаги и доски!»
Ощущение успокоения в нашем унижении, испытанное нами благодаря разорванному и уничтоженному оку, было для нас ново и облегчало душу. За это ощущение рады были ухватиться все…
Нельзя же в самом деле удовольствоваться только сознанием своей ничтожности (а все мы знали это доподлинно). Носить это бремя тяжело; хоть по временам хочется считать себя не совсем ничтожным и хоть капельку правым; и вот волей-неволей, именно вследствие нашего ужасно тягостного душевного состояния, мы все как бы согласились врать в собственную свою пользу, облегчать себя, доказывая собственную правоту всеми неправдами. В сущности мы не были виноваты в том, чем были. Но нельзя же жить годы, изживать век, довольствуясь только такою невинностью… Чтобы не задохнуться в своем ничтожестве, которое, повторяю, в деле с Парамоном было доказано нам самими же нами, мы должны были волей-неволей искать спасения в лганье, в выдумке: – ничего, никакого другого ресурса у нас не было…
– Да, – как бы нечаянно вспоминая, произносил дядя во время какого-нибудь вовсе не относившегося к нашему несчастному положению разговора: – Парамон-то! рассказывали у нас, у него, брат, семь человек детей… Всех бросил, побираются, а он вот… поживает! Говорят, в Киеве, у купчихи, у богатой…
– Вот те святой!.. – отзывался кто-нибудь из семьи иронически.
И врали оба: сверлило всех парамоновское дело, и все выдумывали что-нибудь, от чего бы полегчало.
– Они, эти угодники-то, тоже ловко!.. – раздобаривал даже кучер (ведь и он вздыхал о Парамоне тайком!): – без паспорту шатается себе… да!.. Вериги надел, да и того, например… очень прекрасно они в эфтом деле, ежели с купчихами…
– У них и вериги-то фальшивые, – прибавляет кухарка. – Им бы только так, шаромыжничать…
– И то правда! – уже совсем весело произносит кучер.
Ведь ужас как легко становится виноватому человеку, когда он думает, что он вовсе не виноват. «Шаромыжничество!» – это слово кухарка сказала именно для того, чтобы нанести, с позволения сказать, такую «оплеуху» своему ноющему сердцу, дать ему такого тумака, чтоб оно перестало плакать. И кучеру стало весело, что кухарка отыскала этот тумак в таком ловком слове…
– Я не возьму паспорта, ты не возьмешь, другой не возьмет, третий: что ж это будет? – заводил речь, все в тех же видах успокоения, и дядя, когда уже, в смысле надувателя, Парамон был исчерпан и когда требовались материалы для облегчения совести из таких областей нравственности, которых мы обыкновенно и касаться не смели и не понимали (куда нам!).
– У иностранцев этого нет, – прибавлял он. – Как это можно? Поди-ко у иностранцев-то не возьми паспорта? Там, брат, вот у каких, у младенцев, а уж нумер есть!
Мы знали, что все это неправда, но довольствовались представлением, что и Парамон также виноват в чем-то… «не всё мы!»
Итак, мы врали и врали и понемножку привыкали лганье делать облегчающим нашу жизнь элементом. Соврал – и точно дело сделал, и, главное, ведь врать-то приучались ради самих себя! Сами врали себе, для того чтобы жить, чтоб не сознавать своего ничтожества, нравственного бескрылия, чтобы не ощущать ежеминутно так прочно возделанной в душе трусости, чтобы не терзаться сознанием не менее прочно возделанного… увы! почитания к кулаку, к тому, что изуродовало нас и заставило нутром чтить руку «бьющего», паче ближнего и паче самого себя! Лганье, вздор, призрак, выдумка, самообман и прочие виды лжи, неправды – единственный выход из ущелия, образуемого с одной стороны кулаком, уродующим тебя и заставляющим тебя ежеминутно самого убеждаться, что ты никогда неуродом и не был, а с другой – неотразимым сознанием, что ты урод и что кулак выше тебя неизмеримо! Одно и выходит – ври и живи!
Вот какие феи стояли у нашей колыбели! И ведь такие феи стояли решительно над каждым душевным движением, чем бы и кем оно ни возбуждалось! Не мудрено, что дети наши пришли в ужас от нашего унизительного положения, что они ушли от нас, разорвали с нами, отцами, всякую связь!..
Примечания
Рассказ впервые напечатан в журнале «Отечественные записки», 1877, IV, под заглавием «Из памятной книжки. Парамон юродивый» и за подписью Г. Иванов; перепечатан в сборнике «Из старого и нового», СПБ., 1879 года и затем в «Сочинениях» с небольшими сокращениями, добавлениями и изменениями. Примечание к рассказу, объяснявшее включение этого произведения 1877 года в цикл «Растеряевские типы и сцены», который состоял из рассказов 60-х годов, появилось только в «Сочинениях»; понятие «растеряевщина» Успенский применяет здесь к определению мировоззрения и психики мелкого провинциального чиновничества 30–40-х годов.
Яркой публицистичностью, глубиною обобщения, зрелостью художественного письма этот рассказ резко выделяется среди других произведений цикла «Растеряевские типы и сцены». Наиболее блестящие публицистические строки, не свойственные раннему Успенскому, мы находим вхарактеристике эпохи крепостничества царской России в 30–40-е годы, в освещении им среды чиновничества, характеризовавшейся рабской психологией, раболепным низкопоклонством перед власть имущими, подавлением человеческой личности, человеческого достоинства и полной неспособностью чувствовать и мыслить самостоятельно и независимо.
В 90–900-е годы критики из реакционного лагеря представляли читателю художественный образ юродивого фанатика Парамона как «величайший образ» искателя «правды божьей». Однако сам Успенский не идеализирует Парамона – он характеризует его как «темного», «корявого, необразованного, невежественного» человека, хотя и обладающего непосредственностью, нравственной чистотой и цельностью личности.