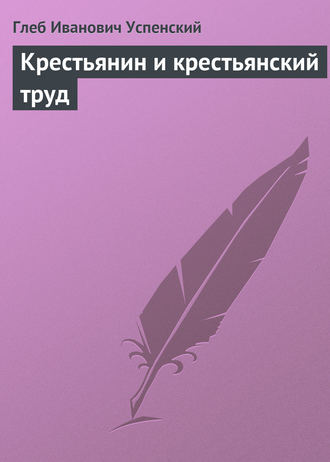 полная версия
полная версияКрестьянин и крестьянский труд
Из всего этого видно, что «повинуйся» и «повелевай» до такой степени прочно вбиты природою в сознание Ивана Ермолаевича, что их оттуда не вытащишь никакими домкратами. Непосредственная, постоянная связь Ивана Ермолаевича с природой, от которой он единственно почерпает все свои сведения, взгляды, вкореняя в основание всего жизненного обихода Ивана Ермолаевича эти два положения, то есть повинуйся и повелевай (пользуйся), до такой степени, как увидим ниже, последовательно продолжается и в его семейно-общинной жизни, что пошатнуть что бы то ни было во всей этой стройной организации решительно нет ни возможности, ни смысла. Но и кроме этого, если читатель признает только то, что прочность вышеупомянутых двух принципов непременно исходит из источника, не подлежащего сомнению и критике, то есть из источника не выдуманного, а действительно реального, то тогда он должен согласиться, что всякие попытки человека, имеющего о тех же вещах понятия книжные, бумажные и т. д., должны непременно оказаться бесплодными. В ответ на все такие книжные разглагольствия Иван Ермолаевич может ответить только одно: «без этого нельзя», но это «только» имеет за себя вековечность и прочность самой природы. Но этим кротким ответом колебателю основ Иван Ермолаевич может ограничиться единственно только по своей доброте; ежели же он человек не с слишком мягким сердцем, то ответ его колебателю той или другой из основ должен непременно выразиться в предоставлении этого самого колебателя к начальству, не как злодея, а просто как сумасшедшего пустомысла, который болтает зря невесть что и своими пустомысленными разговорами может вредить в таких делах, в которых не смыслит ни уха, ни рыла, полагая, что в делах этих можно что-нибудь изменить, тогда как Ивану Ермолаевичу доподлинно известно противное, что ничего тут изменить невозможно и что вообще «без этого нельзя».
Чтобы яснее видеть, с какой строгостью и последовательностью и вместе с какой безграничной покорностью Иван Ермолаевич приводит вышеупомянутые два (невыдуманных, повторяем) принципа в своей жизни и в своих семейных и общественных отношениях, обратимся к обиходу его домашней жизни. И здесь все основано и все держится на таком резонном, добровольно-неизбежном подчинении, что колебатель основ оказывается совершенно ненужным с своими гуманными разглагольствованиями. Курица, овца, свинья, корова и т. д. добровольно и беспрекословно несут свои дары в руки Ивана Ермолаевича; с своей стороны и Иван Ермолаевич добровольно встает в два часа ночи, чтобы замесить свиньям, дать корму курам и т. д., ибо если бы Иван Ермолаевич поверил разговорам колебателя основ о том, что жизнь Ивана Ермолаевича – каторга, что он встает до свету, когда другие спят на мягкой перине и ухом не ведут о трудностях жизни Ивана Ермолаевича, и, согласно этому, задумал бы освободить себя от необходимости вставать до свету, то в результате получилось бы, что куры бы перестали нести яйца, коровы перестали давать молоко, и все передохли бы, оставив Ивана Ермолаевича без всякой пользы. – «Нельзя без этого», – говорит Иван Ермолаевич, соглашаясь однако, что вставать в два часа ночи точно трудно, и колебатель основ должен согласиться с простыми, но вескими словами Ивана Ермолаевича. Такое же веское и основательное «нельзя» будет ответом на все протесты и против других, иногда в высшей степени подавляющих форм подчинения, которыми проникнута вся организация земледельческой (порядочной) крестьянской семьи. Возможно ли такой семье обойтись без власти, без большака? Мы видим, что «большак» есть именно власть над семьей, двором, домом, так как иногда, например, за смертию главы семейства и за недостатком способных людей между оставшимися после покойного членами семьи, большака выбирает мир из посторонних людей; наконец мы знаем, что не всегда старший в семье бывает и большаком: иногда, с согласия мира, большаком ставится младший, но талантливейший, способнейший. Уж из этого видно, что глава в доме, власть домашняя, нужна: этого требует опять же сложность земледельческого труда (составляющего основание хозяйства) и зависимость этого труда от велений и указаний природы. Основываясь на этом, власть большака, при самом внимательном рассмотрении, совершенно неизбежна и опять-таки ни в одном самом ничтожном проявлений не выдумана. Его нельзя не слушаться, потому что, приказывая, он сам повинуется природе, а не выдумывает приказаний с ветру. Надо идти и брать косу, надо идти доить, надо везти навоз – все, что ни требует он, все только потому, что надо, он знает, кого на какую работу поставить, он знает силы семейных работников, он знает их нужды, знает – сколько надо семье хлеба, сколько корму скотине, словом, он блюдет не собственный интерес, а интерес всех. Его нельзя не слушаться, ибо у него есть общий план, основанный на знакомстве и с силами и с средствами семьи; он меньше работает физически, но больше думает, у него больше заботы, чем у каждого члена семьи отдельно. В то время, когда Иван пашет, Матрена доит коров, словом, в то время, когда всякий делает свое дело, большак думает о том, сколько на семью надо полушубков, сапог, рубах, сколько есть в семье денег; едет рядиться на работу или просит у мира прибавки или убавки земли. Все его заботы, распоряжения, хлопоты клонятся к общему благу семьи, и на этом основании все, даже, повидимому, бесчеловечные распоряжения большака, при внимательном исследовании, оказываются вполне основательными, а главное, сделанными прямо с согласия этих же самых жертв (на мой взгляд) бесчеловечия. Начитавшись разных чувствительных романов и набивши голову разными эмансипациями, я вот, например, «возмущаюсь» (слово взято, также из романов) тем, что брат-большак не выдает свою сестру Паланьку замуж. Семь лет кряду за нее сватаются отличнейшие женихи, бравые парни, а брат все отказывает. – «Отчего ты, Пелагея, не выходишь замуж? Ведь уж пора!..» – спрашиваю я аккуратно в год раз и через год, приезжая в деревню. И всякий раз она отвечает мне: «Мне уж давно бы замуж-то надо, да братец не отдает!» – «Да какое же имеет кто бы то ни был право насильно не отдавать тебя замуж? Разве имеет человек право держать другого человека в кабале?» – вопию я, и читатель может представить себе, что я на эту тему могу вопиять сколько угодно, особливо если я прибавлю, что на вопрос мой: «Нравились ли тебе женихи-то?» Пелагея отвечает: «У меня хорошие были женихи…» и вздыхает. Но по ближайшем рассмотрении этого дела тиранства в нем не оказывается ровно никакого. «Никак нельзя было отдать, – объясняет брат Паланьки, якобы тиран. – В прошлом году падеж был, разорились на скотину, не с чем было отдавать, в нонешнем двух лошадей прикупили, опять без денег. Лошадей прикупили потому, что землю арендовали у помещика соседнего, пять десятин, а землю арендовали потому, что своей мало, нехватает хлеба. Вот оно и выходит, что Паланьке погодить надоть… А что говорить, женихи набиваются хорошие, да и пора – а нельзя! Отдай я ее – без лошадей останусь; без лошадей останусь – хлеба не будет; хлеба не будет – покупать его надо, занимать деньги, платить рост – откуда взять? запутаюсь сегодня, завтра еще хуже будет, а через год – глядишь, и весь в кабале. Конечно, что… а надо погодить…» Таким образом, никакого тиранства не оказывается. «Нельзя» и «надо погодить» понимает вполне и сама Паланька. – «Ну, Палагея, – говорит ей жених, за которого ее не отдают, – видно, друг мой, надо нам с тобой прощаться…» – «Прощай, Михайло!» – «Так-то, друг мой милый! Видно, мне придется Афросинью взять, ничего не поделаешь… За Афросиньей отец сулится двести рублей, тут можно взяться хозяйствовать, есть с чего начал положить… А тебя мне взять пустую – не приходится!» – «Нешто не знаю…» – «С пустыми руками, сама знаешь, какое хозяйство – горе одно!..» – «Вот лошадей-то купили, истратились…» – «Знаю, что купили…» Остается вздохнуть и покориться… чему? Идеалам и требованиям, вытекающим из земледельческого труда… На основании этих же земледельческих идеалов и младшего брата большака, Лешку, женили на уроде и на дуре, и опять-таки не из жестокости это сделано, а на самом точном основании идеалов. Сам Лешка объясняет это дело довольно резонно: «В ту пору пожар был, погорели, пришлось строиться, работы много, а народу со всем управиться нехватает. Вот в тот год меня и женили… Мне было, признаться, другая ндравилась, и из себя хороша, даже красива… Да видишь, как вышло: бабушка у нас карактерная, и жена старшего брата карактерна, а жена середнего – больная. Старшего брата жена – покорится бабке, над середней командует, а моя бы, ежели бы, к примеру, я женился, – не покорилась бы ни середней, ни старшей, только что бабке бы, пожалуй што, покорилась бы, потому она хушь и хороша собой, а тоже карактерная… Вот оно и не подходило к ладу-то… Уж моя бы беспременно со старшей пререкалась, а старшая тоже спуску не даст… Больная-то середняя тоже бы на мою-то стала покрикивать, все же старше моей-то, вот и вышло бы у нас расстройство. «Иди туда-то!» – «Иди ты!» – «Я большуха». – «Я сама не маленькая». Вот и пошло бы этак-то… Думали мы, думали, присогласились так, чтоб взять Матрену. Она хоть и рябая и в уме не очень чтоб, а уж карактеру – нет; ей и больная прикажи – делает; и старшая скажет – и ее не ослухается, а бабку боится пуще огня. Конечно, что лицом она действительно что… ну в работе худого сказать никак нельзя!..» Таким образом, если Лешка и принес себя в жертву, то не сознательно ли он поступил при этом и не имел ли он в виду единственно только желание не нарушить гармонии в земледельческом труде, а также не действовал ли он при этом так, как ему повелевают исключительно этому труду свойственные качества? В самом деле, введи он в семью не урода, не дуру и не рабу, а характерную и красивую жену, было бы полнейшее нарушение гармонии коллективных сил семьи, направленных к одной определенной и неизбежной цели. Жалея Лешку, я, однакож, не могу не видеть, что, женясь на дуре и уроде, он поступал вполне резонно и основательно.
Построенное на таком прочном, а главное, невыдуманном основании, как веления самой природы, миросозерцание Ивана Ермолаевича, создавшее на основании этих велений стройную систему семейных отношений, последовательно, без выдумок и хитросплетений, проводит их в отношениях общественных. На основании сельскохозяйственных идеалов деревенский человек ценится во всех своих общественных и частных отношениях; на них построены отношения юридические, а опытом, вытекающим из них, объясняются и оправдываются и высшие государственные порядки. Требованиями, основанными только на условиях земледельческого труда и земледельческих идеалов, объясняются и общинные земельные отношения: бессильный, не могущий выполнить свою земледельческую задачу по недостатку нужных для этого сил, уступает землю (на что она ему?) тому, кто сильнее, энергичнее, кто в силах осуществить эту задачу в более широких размерах. Так как количество сил постоянно меняется, так как у бессильного сегодня – сила может прибавиться завтра (прдрос сын или жеребенок стал лошадью), а у другого может убавиться (отдали, наконец, Паланьку, издохла корова и т. д.), то «передвижка» – как иногда крестьяне именуют передел – должна быть явлением неизбежным и справедливым. Эти же сельскохозяйственные идеалы – и в юридических отношениях: имущество принадлежит тому, чьим творчеством оно создано… Его получает сын, а не отец, потому что отец пьянствовал, а сын работал; его получает жена, а не муж, потому что муж олух царя небесного и лентяй и т. д. Объяснения высшего государственного порядка также без всякого затруднения получаются из опыта, приобретаемого крестьянином в области только сельскохозяйственного труда и идеалов. На основании этого опыта можно объяснить высшую власть: «нельзя без большака, это хоть и нашего брата взять». Из этого же опыта наглядно объясняется и существование налогов: «нельзя не платить, царю тоже деньги нужны… это хоть бы и нашего брата взять: пастуха нанять, и то надо платить, а царь дает землю… Курица, и та яйца не снесет, ежели ей корму не дать, а царь за всем глядит…» Началась война с славянами, с афганцами[23] – опять хоть дело и трудное, но не несогласное с миросозерцанием Ивана Ермолаевича. «Славян нельзя не отбить, потому свой брат… Вот, когда осиновцы сгорели, тоже мы ведь помогали, потому с нами что приключится – и осиновцы помогут…» Афганцев бьют – потому беспокоят… «Это хоть бы и у нашего брата доведись… Станут к тебе суседние ребята в огород лазить, капусту воровать – хочешь не хочешь, а должон взять палку, выгнать оттудова…» Словом, с точки зрения Ивана Ермолаевича, как и вообще «хорошего» земледельца-крестьянина, кажущееся мне влачение по браздам, бесплодное, тяжкое существование – оказывается явлением вполне объяснимым, а главное вовсе не влачением, а существованием, основанным на известных, притом непоколебимых законах, существованием, в котором осмыслен каждый шаг, каждый поступок, определена каждая вещь, определен и вполне объясним каждый поступок. Войдя в этот мир и вполне проникнувшись сознанием законности и непреложности всего существующего в нем, посторонний деревне, хотя бы и озабоченный ею человек должен невольно оставить свою фанаберию, и если он не сумеет думать так, как думает Иван Ермолаевич, и притом не убедится так же, как убежден Иван Ермолаевич, что иначе думать, при таких-то и таких-то условиях, невозможно, то решительно должен оставить втуне все свои теории, выработанные на почве совершенно иной. Тронувшись, например, судьбой Паланьки и Алешки, положим, что я начну разговор о деспотизме, – но Паланьки и Алешки сами докажут: мне, что вовсе не нуждаются в моем заступничестве потому-то и потому-то и что иначе нельзя. Я начну придираться к нечистоте двора, на котором гниет масса навозу, а Иван Ермолаевич опять мне докажет, что нельзя без этого, что навоз первое дело, что вывозить его надо во-время, и он знает, когда это надо сделать; словом, выйдет так, что навоз должен быть в том самом виде и на том самом месте, в каком виде и в каком месте он находится. Я начну колебать его суеверие и в этих видах представлю в юмористическом тоне, как поп собирает пироги и т. д. Но окажется, что юмористических черт в этом отношении у Ивана Ермолаевича накоплено гораздо более, чем у меня, а принципа, олицетворяемого им, я ничуть не поколеблю, потому что поп нужен Ивану Ермолаевичу. У Ивана Ермолаевича есть грехи, которые ему не может отпустить ни староста, ни кабатчик, ни даже губернатор, а отпускает только поп. Господь дал ему урожай, в благодарность за это Иван Ермолаевич ставит свечку и делает это только при посредстве попа, так как не в почтовой же конторе ему ее ставить и не в волостном правлении. Везде своя часть. «Он хоть и не дюже человек хороший и зашибает, – говорит Иван Ермолаевич о попе, – а нельзя… Вот и почтмейстер на станции тоже пьянствует – а через кого отправишь письмо?» Стало быть, все стоит на своих местах, и Иван Ермолаевич вовсе не «влачится по браздам», а живет, во-первых, полною, а во-вторых, осмысленною жизнью. В условиях земледельческого труда почерпает он философские взгляды; в условиях этого труда работает его мысль, творчество; в этом же труде обретает он освежающие душу поэтические впечатления; на основаниях этого труда строит свою семью, строит свои общественные, частные отношения, и из условий всего этого составляется взгляд на общую государственную жизнь.
Проникнувшись непреложностью и последовательностью взглядов, исповедуемых Иваном Ермолаевичем, я почувствовал, что они совершенно устраняют меня с поверхности земного шара… Все мои книжки, в которых об одном и том же вопросе высказываются сотни разных взглядов, все эти газетные лохмотья, всякие гуманства, воспитанные досужей беллетристикой, все это, как пыль, поднимаемая сильными порывами ветра, было взбудоражено естественною «правдою», дышащею от Ивана Ермолаевича… Не имея под ногами никакой почвы, кроме книжного гуманства, будучи расколот надвое этим гуманством мыслей и дармоедством поступков, я, как перо, был поднят на воздух дыханием правды Ивана Ермолаевича и неотразимо почувствовал, как и я и все эти книжки, газеты, романы, перья, корректуры, даже теленок, не желающий делать того, чего желает Иван Ермолаевич, – все мы беспорядочной, безобразной массой со свистом и шумом летим в бездонную пропасть…
V. Смягчающие вину обстоятельства
…Поражение было до такой степени чувствительно, что некоторое время я положительно не мог опомниться; но мало-помалу сознание стало возвращаться ко мне, и, не желая быть погребенным заживо, я невольно стал выказывать кое-какие попытки к борьбе за свое существование и в этих видах остановился на вопросе о том, что неужели, мол, в самом деле народу так-таки ровно ничего и не нужно, кроме «земельки», которой у него мало, и неужели все то, что известно под именем «движения в народ», есть только глупость и только преступление? Не настало ли, напротив, время из тайны и подполья вывести это дело на ясный божий свет, не пора ли определить всю серьезность, а главное обязательность этого дела для всякого русского совестливого и грамотного человека? Ведь крепостное право кончилось, а стало быть, кончилось для громадного большинства русских людей, не принадлежащих к простому народу, право праздного, бездельного существования. Не пора ли ввиду этого в такой степени прямо и серьезно поставить вопрос о народном деле, чтобы оно перестало казаться геройским подвигом, или самопожертвованием, или, наконец, делом, достойным только пропащего человека. Наши города и столицы переполнены народом образованным и грамотным, для которого, однако, карьера волостного писаря или сельского учителя представляется почти таким же ужасным исходом жизненного поприща, как и карьера кабачного сидельца. Охотников до «центров» и благ, расточаемых ими, хотя далеко на всех нехватающих, слишком много воспитано на русской земле; для деревни же остаются одни кабатчики и люди, которые «отчаялись» в своих карьерах. Но для того, чтобы скромная работа в деревне не казалась ни адом, ни каким-то необыкновенным героическим поступком, а простою и серьезнейшею обязанностью всякого человека, существующего несомненно на народные деньги, для этого, повторяем, дело народное должно быть выяснено во всей своей обширности, во всем своем патриотическом значении, во всей своей многосложности. Только это выяснение дела и даст устойчивые, захватывающие душу идеалы, прольет иной свет на некоторые приемы народного дела, считающиеся ныне злом, и очистит это дело от осложнений, нимало его не касающихся.
Главнейшею причиною того, что народное дело непременно должно быть выяснено в самой строгой беспристрастности и, если угодно, бесстрашии, служит чрезвычайно важное обстоятельство, замеченное решительно всеми, кто только мало-мальски знает народ, что стройность сельскохозяйственных земледельческих идеалов беспощадно разрушается так называемой цивилизацией. До освобождения крестьян наш народ не имел с этой язвой никакого дела; он стоял к ней спиной, устремляя взор единственно на помещичий амбар, для пополнения которого изощрял свою природную приспособительную способность. Теперь же, когда он, обернувшись к амбару спиной, стал к цивилизации лицом, дело его, его миросозерцание, общественные и частные отношения – все это очутилось в большой опасности. Ибо цивилизация эта, как кажется, имеет единственной целью стереть с лица земли вое вышеупомянутые земледельческие идеалы. Ведь вот стерла же она с лица земли русскую бойкую, «необгонимую» тройку, тройку, в которой Гоголь олицетворял всю Россию[24], всю ее будущность, тройку, воспевавшуюся поэтами, олицетворявшую в себе и русскую душу («то разгулье удалое, то сердечная тоска»[25]) и русскую природу; все, начиная с этой природы, вьюги, зимы, сугробов, продолжая бубенчиками, колокольчиками и кончая ямщиком с его «буйными криками», – все здесь чисто русское, самобытное, поэтическое… Каким бы буйным смехом ответил этот удалец-ямщик лет двадцать пять тому назад, если бы ему сказали, что будет время, когда исчезнут эти чудные кони в наборной сбруе, эти бубенчики с малиновым звоном, исчезнет этот ямщик со всем его репертуаром криков, уханий, песен и удальства и что вместо всего этого будет ходить по земле какой-то коробок вроде стряпущей печки и без лошадей и будет из него валить дым и свист… А коробок пришел, ходит, обогнал необгонимую. Необгонимая позвякивает своими малиновыми бубенцами на весьма ограниченном пространстве – Конюшенная – Ливадия – Нарвская застава – Конюшенная – только и ходу для необгонимой!..[26] Что же будет, ежели паче чаяния эта ядовитая цивилизация вломится в наши палестины хотя бы в виде парового плуга? Ведь уж он выдуман, проклятый, ведь уж какой-нибудь практический немец, в расчете на то, что Россия страна земледельческая, наверное выдумывает такие в этом плуге, усовершенствования, благодаря которым цена ему будет весьма доступная для небогатых земледельцев. Ведь, кроме того, немец может устроить и рассрочку и разные снисхождения – словом, придумает и так или сяк водворит этот плод цивилизации в наших палестинах, и что тогда может произойти, поистине вымолвить будет страшно. Все, начиная с самых, повидимому, священнейших основ, должно если не рухнуть, то значительно пошатнуться и во всяком случае положить начало разрушению… Так как плуг вздирает землю и в дождь и в грязь, то количество восковых свечей должно несомненно убавиться. Кроме того, в значении власти большака получится значительный пробел, а следовательно, и сомнение в необходимости подчинения его указаниям, да и указаний-то этих убавится сразу более чем наполовину; громадная брешь образуется и в мирских делах, ибо плуг, вздирая «по ряду» всю мирскую землю, уничтожает все эти колушки, и значки, и границы… Масса серьезнейших мирских дел оказывается ненужными. Паланька явно не пожелает долее подчиняться требованиям разрушенных идеалов и освободится вместе с освобожденными плугом лошадьми. Произойдет опустошение во всех сферах сельскохозяйственных порядков и идеалов, а на место разрушенного ничего не поставится нового и созидающего. И батюшка начнет произносить грозные проповеди о развращении нравов. Да что плуг! Плуг – это покуда праздная фантазия, но беды цивилизации несут к нам такие, повидимому, ничтожные вещи, которые в сравнении с плугом то же, что папироска с Александровской колонной. Какая-нибудь керосиновая лампа или самый скверный линючий «ситчик» – и те, несмотря на свою явную ничтожность, тем не менее наносят неисцелимый вред порядкам и идеалам, основанным и вытекающим из условий земледельческого труда. Керосиновая лампа уничтожает лучину, выкуривает вон из избы всю поэтическую сторону лучинушки, удлиняет вечер и, следовательно, прибавляет несколько праздных часов, которые и употребляются на перекоры между бабами, главной причиной раздела и упадка хозяйства. А «ситчик» по десяти копеек аршин! – уж на что, кажется, дрянь, и притом самая линючая, а от появления его баба разогнула спину, бывало согнутую над станком; но, разогнув ей спину и дав, таким образом, массу праздного времени, времени, еще недавно поглощенного ужасным трудом, он тем самым дал волю ее наблюдательности, развязал язык и усилил семейные несогласия. А чай? сахар? табак? сигары? папиросы? пиджаки? Разве все это благоприятствует сохранению типа «настоящего» крестьянина?..
Влияние цивилизации отражается на простодушном поселянине решительно при самом ничтожнейшем прикосновении. Буквально «прикосновение», одно только легкое касание – и тысячелетние идеальные постройки превращаются в щепки. Вот перед вами трудолюбивый, деликатный, умный, целомудренный крестьянин; но поездил он две зимы легковым извозчиком – и уж развратился! Скажите, пожалуйста, какая же тут может быть цивилизация – ездить зимой в морозы на облучке и сидя спать в трактирах, опустив голову на стол? А между тем развращается. В две зимы человек «насобачивается» так, что уж делается чужим в родном своем семействе. Гордость рождается у него, фанаберия и насмешка; приучается прятать деньги от матери, от большака и непременно задумывает делиться. И это в лучшем случае, а то просто делается мерзавцем: иной придет из Петербурга без копейки, хоть и «при часах», ничего не делает, не работает, а свою же родную мать посылает ходить по миру и ждет ее, поглядывая на свои часы…
Наконец, кто не знает, как быстро меняется, и меняется к худшему, самый «тип» деревенского человека, даже в таких отдаленнейших от цивилизации учреждениях, как, например, кабак? Стоит «крестьянину» посидеть года два в кабаке, и притом с своими же, такими же крестьянами – как из порядочного человека он превращается в нечто решительно непривлекательное: все меняется в нем. Начиная с вычурности выговора, с этих масляных волос, с этого бритого затылка, до приемов и ухваток, (растопыренных пальцев, походки и т. д., все в нем омерзительно и гнусно; но всего гнуснее – миросозерцание. Из мирского человека он превращается в мирского обиралу, из жалостливого к бедным – в хладнокровного до жестокости: ему ничего не стоит спаивать человека, зная, что он этим разоряет, «голодит» целую семью; ему ничего не стоит выбросить на мороз этого, спившегося с кругу человека, после того как у него не останется ни гроша. Даже убить человека ему ничего не стоит из-за денег. Замечательно при этом, особенно в деревенском кабатчике, то обстоятельство, что он имеет дело исключительно почти с своим братом, деревенским человеком, односельчанином, и притом постоянно присутствует при самых откровенных (после стаканчика) разговорах о «нужде», о горе, которое большею частью и потребляет вино, – и ничего, кроме жестокости, бесчеловечия, эта обстановка в нем не воспитывает. Но, положим, кабак вообще плохая школа нравственности; всего ужаснее то, что почти такие же результаты достигаются совершенно иным, вполне противоположным путем… Из всего сказанного, да и кроме сказанного, из множества ежедневных примеров очевидно следует, что для сохранения русского земледельческого типа, русских земледельческих порядков и стройности, основанной на условиях земледельческого труда, всех народных частных и общественных отношений необходимо всячески противодействовать разрушающим эту стройность влияниям; для этого необходимо уничтожить все, что носит мало-мальски чуждый земледельческому порядку признак: керосиновые лампы, фабрики, выделывающие ситец, железные дороги, телеграфы, кабаки, извозчиков и кабатчиков, даже книги, табак, сигары, папиросы, пиджаки и т. д. и т. д. Все это необходимо смести с лица земли для того, чтобы Иван Ермолаевич, воспитавшийся в условиях земледельческого труда, на них построивший все свои взгляды, все отношения, на них основавший целый, особый от всякой цивилизации, своеобразный «крестьянский» мир, мог свободно и беспрепятственно развивать эти своеобразные начала…











