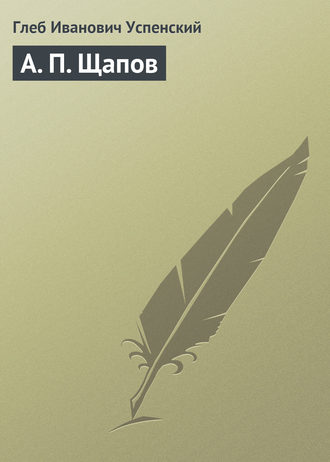 полная версия
полная версияА. П. Щапов
Когда эта печальная весть была получена в Казани. Горькое и тяжелое впечатление охватило все общество. «Щапов впал в страшное волнение и плакал навзрыд о невинно убитых крестьянах, называя их страдальцами и мучениками». Виновниками прискорбного дела считали лиц, которые не умели даже говорить с народом, на умели убедить простодушных, непонимающих людей. Под горячим впечатлением решено было отслужить торжественную панихиду по убитым в с. Бездне, и Щапоз вызвался приготовить и сказать надгробную речь. Панихида отслужена была в вербное воскресенье, после вечерни, 16 апреля (а 17 в с. Бездне расстреляли А. Петрова). Народу собралось множество. «Богослужение совершалось соборне, двумя священниками и иеромонахом в сослужении дьякона и иеродиакона. На кратких ектениях священнослужители поминали «рабов божиих, во смятении убиенных». «Вечную память» пропела вся толпа молельщиков, находившихся в церкви. Щапоз, взойдя на амвон, взволнованным голосом произнес одушевленную речь, в которой коснулся бездненской истории… Эта речь произвела на слушателей сильное впечатление и потом в рукописи ходила по рукам» (стр. 66).
Профессорская деятельность Щапова должна была прекратиться, а литературные работы, быть может, и выигравшие против прежних трудов Щапова в литературном отношении, с этого времени и до конца его жизни, кажется, не были достаточными для того, чтобы Щапов чувствовал себя довольным, счастливым и спокойным. Он был живой человек, слово и мысль которого были пламенны и животворны лишь тогда, когда и в деле жизни могли быть осуществимы в какой бы то ни было степени, а главное – неразрывны с нею, но дальнейшая жизнь А. П. не баловала его в этом отношении.
На этом мы и кончим нашу, сознаемся, весьма поверхностную характеристику духовной жизни и литературно-общественной деятельности Щапова.
Особенности родовых сибирских преданий, сохранившихся в живой действительности, до такой степени жизненно воепитали и укрепили в нем веру в правоту старинного земского союзного строя, что он не мог не стремиться проявлять своих симпатий к нему не только в слове и печати, а прямо в деле живой действительности.
Но «дела» для Щапова не было и не могло еще быть. Не было еще ни земства, ни обновленного суда, ни городского самоуправления; не было ничего такого, что впоследствии, постепенно, было вызвано таким большим, по старинному образцу сделанным, делом, как освобождение крестьян.
Европейская Россия кое-как дожила до некоторых попыток изменения в земском строении. Доживет до них и Россия Азиатская, и великорус-сибиряк вновь когда-нибудь встретится с учреждениями, напоминающими те, во имя сохранения которых «упорствовали» его предки…
Необходимо свято хранить эти родовые предания колонизаторов Сибири, чтобы дело бумажное могло преобразиться в дело живое, а забывчивым потомкам коренных сибиряков литературные произведения А. П. Щапова и его жизнь как нельзя лучше могут напомнить сущность этих преданий и докажут им, что предания эти не заглохли в великорусском народе и по сей день.
Томск, 20 июля.
Примечания
Впервые напечатано в «Сибирской газете», 1888, № 55, 22 июля. Воспроизводится по тексту газеты.
Предприняв поездку к сибирским переселенцам, Успенский в июле 1888 года прибыл в Томск. Редакция «Сибирской газеты», в которой участвовали представители политической ссылки, деятели народнического лагеря, готовились к большому культурному событию в жизни царской России – открытию первого сибирского университета в Томске. В номере газеты намечался отдел «Замечательные сибиряки», и для него Успенский написал статью о Щапове.
Афанасий Прокофьевич Щапов – выдающийся историк, разночинец-демократ, сформировавшийся как ученый в период революционной ситуации 1860-х годов, отличался огромным вниманием к изучению народных движений, общинного строя в России, истории раскола. Блестяще начавшаяся профессорская деятельность Щапова в Казани была прервана после его выступления по поводу расстрела 16 апреля 1861 года крестьян в с. Бездна, Казанской губ, не желавших признать разорявший их манифест об «освобождении» от крепостной зависимости. Щапов был арестован и препровожден в Петербург. Наказание, назначенное ему Александром 11 – «подвергнуть вразумению и увещанию в монастыре», было отложено вследствие энергичного протеста литературной общественности, организованного Н. Г. Чернышевским, но Щапов поплатился тюремным заключением и потерей профессорской кафедры.
В 1863 году Щапов был выслан из Петербурга на родину, в село Анга, за Байкалом, откуда ему удалось переселиться в Иркутск, где он и провел последние годы жизни.
Щапов предпринял ряд этнографических исследований края, участвовал в экспедициях и оставил ценные работы по вопросам изучения Сибири.
Успенский видит в Щапове потомка «упрямых» великорусов, не желавших смиряться под ярмом самодержавия и после безрезультатного протеста уходивших в Сибирь, подальше от центральной власти. Он отмечает у Щапова уважение к выборному началу общественного строя, потребность в создании «соединенно-областного земского строения», желание заставить царя выслушивать требования земских людей и выполнять их. Склонный переоценивать роль земских учреждений в своем горячем стремлении оказать живую помощь народу, Успенский с благодарным чувством вспоминает о Щапове, показавшем «правоту старинного союзного земского строя». Вместе с тем он осуждает общественный порядок царской России, не дававший места никаким попыткам облегчить тяжелую жизнь трудящегося народа.
При написании статьи Успенский широко воспользовался фактическими материалами, приведенными в книге II. Я. Аристова «Афанасий Прокофьевич Щапов. Жизнь и сочинения», СПБ., 1883.
Сноски
1
«Вольные и невольные слуги Московского государства», проф. Сергеевича. – «Наблюдатель», 1887 год, №№ 1–3.
2
«Земство и раскол». А. Щапов, стр. 4.
3
Книга А. П. Щапова «Земство и раскол», вып. 1, вышла в 1862 году в Петербурге, изд. Д. Е. Кожанчикова. В приводимой цитате слов: «по наивным мечтаниям тогдашних земцев» – у Щапова нет.
4
Аристов, стр. 57.
5
Там же.











