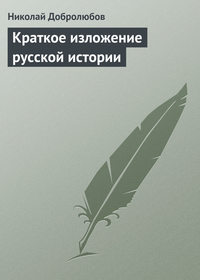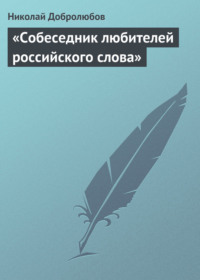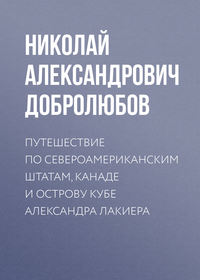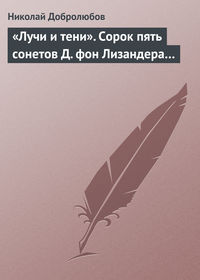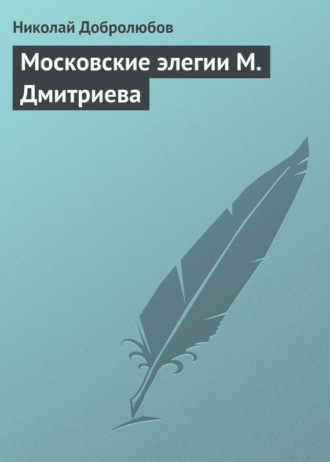 полная версия
полная версияМосковские элегии M. Дмитриева

Николай Александрович Добролюбов
Московские элегии M. Дмитриева
Москва, 1858
Известно, что Москва – сердце России, и потому «Московские элегии» должны на всю Россию навести неописанное уныние: как же может быть иначе с страною, когда ее сердце опечалено и ударилось в элегии! Нам невыразимо жаль бедную Россию! Что это вздумалось ее сердцу так опечалиться? Ведь это – явление крайне мудреное… Элегии в Москве! в добродушной, патриархальной, белокаменной, гостеприимной, златоглавой Москве! в Москве, про которую Пушкин сказал:
Москва! Как много в этом звукеДля сердца русского слилось;{1}про которую графиня Евдокия Ростопчина пела:
Ай люли! Ай люли!Здравствуй, матушка Москва,Белокаменная!(Стихотворения, т. II, стр. 442){2};а полковник Скалозуб прибавил:
Дистанция огромного размера!В этой самой Москве вдруг, ни с того ни с сего, появляются элегии! Да что же с тобой, матушка, попритчилось? С чего на тебя такая тоска напала? Кто на тебя этакую напасть напустил? Скажи нам, наша родная, хлебосольная, златоглавая… Кажется, и царь-пушка, и царь-колокол, и Иван Великий, и все сорок сороков твоих при тебе остаются неприкосновенны. О чем же печалиться? Утешься, матушка, успокойся, родимая, утри свои слезы горькие. Посмотри-ко на своего братца меньшого, – как он-то потешается: каждый божий день является у него новый Демокрит, с новым смехом. А у тебя там какой-то плаксивый Гераклит явился.{3} Целых 50 элегий сочинил г. М. Дмитриев… Недобрый человек этот г. М. Дмитриев! Вздумал же ведь – нагнать тоску на целую Россию, опечаливши сердце ее, поместивши целую Москву в элегию!.. В предисловии говорит он, что хотел представить характеристику Москвы и даже намерен был назвать свои элегии: «Москва и москвичи»; да только – les beaux esprits se rencontrent![1] – название это прежде него употреблено уже было Загоскиным.{4} Что же тут элегического, – спрашиваем мы, – о чем же сокрушается г. Дмитриев, изображая Москву, добродушную, первопрестольную, всегда отличавшуюся более хлебосольным, нежели элегическим, настроением? Вопросы эти разрешаются только ближайшим знакомством с книжкою г. Дмитриева.
Знакомство это привело нас к следующему убеждению. Добродушный поэт дошел, после горького опыта жизни, до самого отчаянного скептицизма: ему представляется по временам, что Москвы нет… то есть она есть, но только в его воспоминаниях, – реального же бытия не имеет. Это убеждение так крепко в голове и сердце поэта, что уже ничем нельзя разрушить его… Напрасно вы станете ему показывать на народные гулянья, на пиры, сплетни, кремлевские стены, карты, Марьину рощу, визиты и другие принадлежности московской жизни: ничто на него не действует освежающим образом. Очи его остаются омрачены туманом неверия, и он, в ответ на все ваши указания, только повторяет с сокрушением сердца: «Нет, это не Москва! Какая же это Москва! Разве Москва такая бывает! Нет, вот как я помню Москву, – до француза, – так то была настоящая Москва; а это что такое? Даже подобия Москвы не имеет». И вслед за тем принимается напевать элегию о том, зачем Москва – не Москва. Вот вам и объяснение того странного обстоятельства, каким образом в Москве могла явиться книжка элегий.
Сопоставление прежней Москвы с тем, что ныне называют Москвою и во что г. М. Дмитриев не верует, не лишено некоторых любопытных черт. Несколько таких черт мы представим читателям.
Москва, настоящая Москва, не нынешняя – призрачная, – с малолетства по гроб жизни пировать и угощать любила. Г-н М. Дмитриев представляет ее угощения в различных фазах ее развития. Он вопрошает:
Знаете ль, русские люди, давно ли Москва молодаяВ первый раз, как боярыня, русских князей угощала?В тысяча во сто сорок седьмом, – москвичам ли не помнить?Марта двадцать осьмого сын Мономаха ГеоргийВ ней Святослава встречал: знать, Москва угощать уж любила!Много времени протекло с тех пор, но не изменился чудный обычай московский у наших предков. Часто они собирались, и тогда —
В кубках чеканных гостям со льду меды подавали;Чашник носил, а хозяин за ним, и кланялся в пояс…Чудные нравы! Сядут за стол: пироги и похлебки!Гуси, куря, что с подливкой, что верчено, пряжено, с луком!Пол-осетра под рассолом, пол-осетра с огурцами,Разные сырники, с медом оладья, кисель под шафраном;Вот и хозяйка выходит сама и потчует водкой…Прошло и с тех пор много времени. Многое изменилось, но не изменился чудный обычай московский до наших времен. Г-н М. Дмитриев помнит сам пиры отцов, когда сбирались родные к старшему в роде, в день именин или в праздник, как там все было чинно и смирно за длинными столами:
Всё по порядку, и чинно разносятся вкусные блюда.После жаркого обносят бокал, и все поздравляют.Многие уверяют, что подобные обычаи и ныне сохранились на Москве во всей первобытной чистоте своей; но г. Дмитриев не хочет верить этому. Он, видя, не видит и в современной Москве осмеивает, преследует с ожесточением то, чем благоговейно восхищается в своих предках. Нынче не то, – говорит он. – Конечно, и ныне пьют и едят, да разве так, как прежде? Во-первых, пряжено, верчено, с луком и в помине нет; а во-вторых, теперь уж всякая дрянь пьет и ест, что уже совершенно противно тому, что было прежде. Вот, например, какой-то маленький человек живет в предместье; кажется, не боярин, – а между тем пьет и ест себе преспокойно, точно какая чиновная птица, и в ус себе не дует. Счастливец! – с горечью восклицает поэт:
Есть же счастливые люди, которым день нечего делать;Спится всю ночь напролет, и назавтра – другое сегодня!Чая вечернего час им как будто какое-то дело:Чинно на блюдце всегда льют напиток они> благородный,Чинно подставят пять пальцев и снизу под донышко держат…В этой тонкой иронии так и слышится слезное воспоминание о временах предков, пивших не из чашек, а из чар и бокалов, и вовсе не знавших чаю.
Но особенное негодование г. М. Дмитриева возбуждают купцы. Вообразите, в нынешней Москве даже купцы осмеливаются есть и пить, сколько их душе угодно. Это уж ни на что не похоже, и г. М. Дмитриев восклицает с озлоблением:
Что за народ! Без еды и без чванства им нет и гулянья!В рощу поедут – везут пироги, самовар и варенье.Ходят – жуют; поприсядут – покушают снова!Точно природа из всех им даров отпустила лишь брюхо…В самом деле, досадно. Всякая дрянь туда же – есть хочет. Другое дело наши предки; те по крайней мере боярством заслужили право есть и пить…
Другая прекрасная сторона древнего московского быта, – до француза, – состояла в уважении к роду и вообще к старшим. Картины, рисуемые на эту тему г. М. Дмитриевым, поистине умилительны! Он вспоминает о своей молодости:
Просты сердцами мы были, как дети; а добрые старцы,Наши наставники, были у нас, как отцы, благосклонны;Но, как отцы, нас с собой не равняли, нам руку не жали!Мы уважали их, мы их любили, но и боялись!Нас не боялись зато старики: мы не судьи им были!Мы начинаем проникаться сочувствием к жалобам г. М. Дмитриева. Как, в самом деле, не жалеть старцу о том времени, когда старики молодым руки не жали и когда молодые боялись стариков и не смели судить о них! И чем же заменилось все это? Бесчинством, непочтительностью к старшим и даже родным:
Нынче не то! Собираются, где веселее! Нет старших,Нет молодых; все равны, и слабеют семейные связи!Нужен – ему и почет; а не нужен – умри, и не вспомнят!Кто в сюртуке, кто во фраке; этот в пальто мешковатом;Тот, как француз, с бородой; а рядом – в звезде заслуженной!Предмет, поистине достойный плачевнейшей элегии; только лучше было бы, если бы начало последнего стиха заменено было следующими словами: тот, как наш предок, с брадой… и пр.
Бывало, и праздники проводили иначе, и г. М. Дмитриева преследует на каждом шагу воспоминание о старинных порядках. Так – 24 июня 1846 года он сочинил внезапно элегию о том, что светлое воскресенье мы не так проводим, как следует. Элегия начинается так:
Вот замолчали уж ранних обеден прерывные звоны.К поздним торжественно, громко звонят, и народ пешеходовВ храмы опять; а уж мы, лишь от ранних давно разговелись!..и т. д.Описание это так живо, что невольно подумаешь, что оно написано в самый день праздника; только 24 июня, подписанное внизу элегии, разочаровывает вас, напоминая, что пасха никогда не бывает в июне. Но зато тем большее удивление возбуждается в читателе к творческой фантазии г. М. Дмитриева, который, отвергнувши реальность нынешней Москвы, уже не хочет ограничивать себя никакими условиями пространства и времени.
Выхваляя прежнюю, прадедовскую Москву, г. М. Дмитриев замечает, что прадеды наши, бывало, только на третий день праздника ездили в гости, и то – к кому же?
К старшему в роде, потом к кумовьям да к родным попочетней.Ныне вовсе не то: нет «наследственного почета к горю и опыту старших».
Кто ж заменил стариков? Кто взял в обществе власть над умами?Первый крикун без стыда или выходец родом безвестный!Что тут до связей семей, где иной рад забыть и о роде?Нынче уж случается, что и отец ищет покровительства сына, – прибавляет г. М. Дмитриев, желая выразить всю великость современного развращения нравов. В самом деле – чего уж ждать от такого общества, где сын может опередить отца или племянник дядю в общественном значении! Плакать надо о таком обществе горючими слезами, как и делает г. Дмитриев.
Но этого недостаточно, что в Москве уж не находит ныне г. М. Дмитриев господ Фамусовых, говорящих:
Нет, я перед родней, где встретится, ползком… и пр.Этого мало: поэт находит в современной Москве еще более тяжкое преступление – неуважение к поэтам, состоящее в том, что их признают людьми, а не чем-то высшим, как в старину. За такое вольнодумство поэт упрекает нынешнюю Москву в следующих кротких воспоминаниях о старине:
Музы тогда еще не были согнаны с холмов Парнаса;Феба и их имена призывались еще в песнопеньях!Жрец опасался их слух оскорбить неразумною песнью!Дар песнопенья был всеми уважен, как данный от бога;Люди считали поэта – высшим, чем прочие люди!И все это прошло! Феба и муз имена не призываются более; песнопений не слышно, жрецы, музы исчезли и заменились простыми смертными, которые, хоть и имеют поэтический талант, но – увы! все-таки пьют, едят, спят и пр., как и все люди. Ужасно!
И наука теперь уж не такова, как прежде. Бывало, во храме науки, в торжественный день, по словам г. М. Дмитриева, —
Хор прогремит, и всходил Мерзляков на кафедру, и оду,Пышную оду громко читал иль похвальное слово!{5}А теперь вместо пышных од читаются речи в прозе, да и те не имеют даже характера похвальных слов. Прежде еще г. Шевырев поддерживал храм науки, сочиняя и оды и панегирики; но теперь – о, роковой удар! – и его не стало!{6} Все заняты теперь существенными потребностями жизни, стремятся к положительным знаниям, к интересам действительности, или, говоря элегическим языком г.-М. Дмитриева:
Грубый житейский лишь быт устремляет их жадные очи!А в прежнее время поэты, по уверению московского Гераклита, приближали людей к первобытному состоянию человека. Г-н Дмитриев восклицает даже в одной элегии:
Странная мысль мне пришла!Первобытный язык человекаНе был ли мерный язык, обретенный поэтами снова?Точно, странные мысли приходят иногда в голову г. М. Дмитриеву!
Но всего более огорчен поэт наш тем, что в нынешней Москве нет более сплетен. Чудною, задушевною грустью веет 37-я элегия: «Молва и сплетни»:
Добрая наша Москва! говорят, что на старости любишьСплетни ты слушать, молву распускать……Нет, то уж время прошло, и молва от тебя не исходит!Нет! ты на старости любишь только спросить да послушать!Это всего печальнее, печальнее даже тех горестных обстоятельств, что купцы и поэты пьют и едят и что бородатые славянофилы, подобно французам, садятся в гостиной рядом с звездой заслуженной… Во всем можно утешиться, но нельзя довольно наплакаться о том, что прошло уж то время, когда Москва занималась сплетнями и распускала молву.
Впрочем, необходимо прибавить в заключение, что все сетования г. М. Дмитриева относятся к 1845–1847 годам. Он сам просит принять это во внимание, потому что, по его словам, «с тех пор, как писаны эти элегии, многое изменилось в Москве, особенно в убеждениях и направлении многих мнений». За убеждения и направление мы не можем ручаться; но по крайней мере относительно последнего предмета сожаления г. М. Дмитриева в Москве действительно произошла в недавнее время перемена решительная и несомненная. В прошлом году от Москвы исходила «Молва», и если в нынешнем она прекратилась, то, может быть, заменилась сплетнями.{7} Поэт может, значит, утешиться.
Примечания
Условные сокращенияАничков – Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений под ред. Е. В. Аничкова, тт. I–IX, СПб., изд-во «Деятель», 1911–1912.
Белинский – В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, тт. I–XIII, М., изд-во Академии наук СССР, 1953–1959.
Герцен — А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах тт. I–XXV, М., изд-во Академии наук СССР, 1954–1961 (издание продолжается).
ГИХЛ – Н. А. Добролюбов Полное собрание сочинений в шести томах. Под ред. П. И. Лебедева-Полянского, М., ГИХЛ. 1934–1941.
Гоголь – Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, тт. I–XIV, М., изд-во Академии наук СССР, 1937–1952.
ГПБ – Государственная публичная библиотека им. M. E. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
Изд. 1862 г. – Н. А. Добролюбов. Сочинения (под ред. Н. Г. Чернышевского), тт. I–IV, СПб., 1862.
ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.
Лемке – Н. А. Добролюбов. Первое полное собрание сочинений под ред. М. К. Лемке, тт. I–IV, СПб., изд-во А. С. Панафидиной, 1911 (на обл. – 1912).
ЛН – «Литературное наследство».
Материалы – Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 годах (Н. Г. Чернышевским), т. I, М., 1890.
Писарев – Д. И. Писарев. Сочинения в четырех томах, тт. 1–4, М., Гослитиздат, 1955–1956.
«Совр.» – «Современник».
Указатель – В. Боград. Журнал «Современник» 1847–1866. Указатель содержания. М. – Л., Гослитиздат, 1959,
ЦГИАЛ — Центральный гос. исторический архив (Ленинград).
Чернышевский – Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, тт. I–XVI, М., ГИХЛ, 1939–1953.
Впервые – «Совр.», 1858, № 9, отд. II, стр. 79–85, без подписи. Вошла в изд. 1862 г., т. II, стр. 233–239.
М. А. Дмитриев (1796–1866) – реакционный поэт, критик и мемуарист, выступавший в литературе с 20-х годов XIX века, был известен как приверженец старины, поборник классицизма. Он яростно выступал против передового лагеря в литературе, доходя до прямых доносительных выпадов; таково, например, его стихотворение «Безымянному критику» (1842), направленное против Белинского.
Рецензия Добролюбова, высмеявшая запоздалого «плаксивого Гераклита», вызвала оживленные толки. Близкий приятель Добролюбова И. И. Бордюгов сообщал из Москвы: «И ругают же тебя за Дмитриевские элегии» (Лемке, II, стр. 363). H. M. Михайловский поместил в следующем номере «Современника» отрицательную рецензию на «Сатиры Квинта Горация Флакка» в переводе М. А. Дмитриева; ранее эта рецензия приписывалась Добролюбову (см. Указатель, стр. 345, 553).
Сноски
1
В великих умах родятся одинаковые мысли (франц.). – Ред.
Комментарии
1
Цитата из «Евгения Онегина» (глава седьмая, строфа XXXVI).
2
Цитата из куплетов Е. П. Ростопчиной в водевиле «Не влюбляйся без памяти, не женись без расчета».
3
Антитеза Гераклит и Демокрит, восходящая к преданию о том, что первый философ был «плачущий», а второй «смеющийся», была весьма распространенной в литературе XVIII–XIX веков (в комедии А. И. Клушина «Смех и горе», в водевиле П. А. Каратыгина «Демокрит и Гераклит, или Философы на песках» и др.).
4
Имеется в виду издание M. H. Загоскина «Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Вельского», выходившее в 1842–1850 годах.
5
Поэт и критик А. Ф. Мерзляков (1778–1830) был также профессором Московского университета.
6
С. П. Шевырев был профессором Московского университета с 1834 года; его отставка связана с тем, что на заседании Совета Московского художественного общества 14 января 1857 года он был избит графом В. А. Бобринским. В «Дневнике» Добролюбова есть упоминание об этой драке (запись от 23 января 1857 года).
7
«Молва» – славянофильская газета, издававшаяся в Москве в 1857 году. Выход ее прекратился после предупреждения цензуры за статью К. С. Аксакова «Опыт синонимов. Публика и народ», помещенную в № 36 газеты. Сплетни – очевидно, намек на уличные листки «Сплетни» и «Сплетник», вышедшие в Петербурге в 1858 году. См. следующую рецензию Добролюбова и прим. к ней.