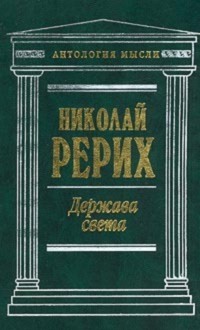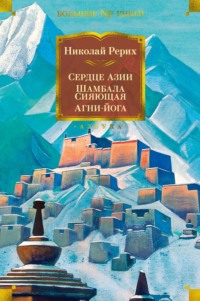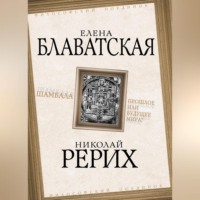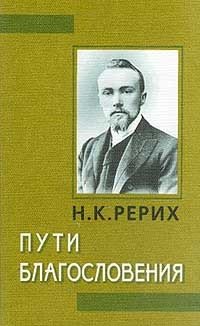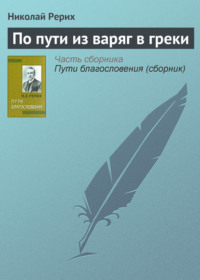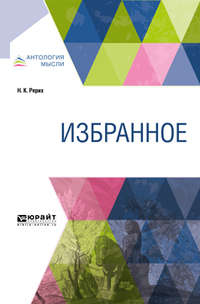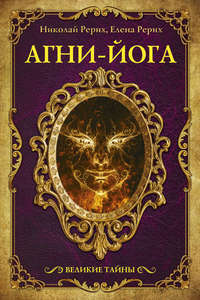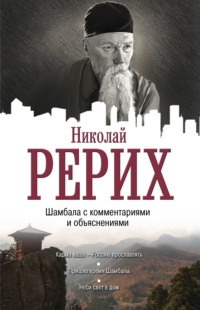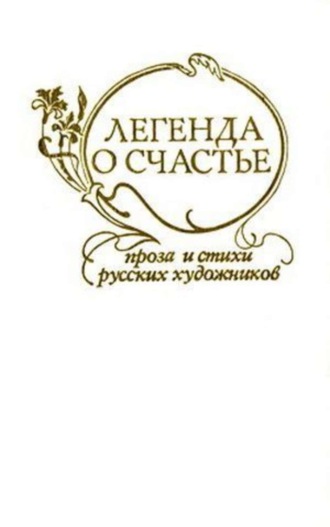 полная версия
полная версияЛегенда о счастье. Стихи и проза русских художников
Если вы имеете еще несколько свободных минут, – обратился старик к артистам, – то присядемте. Я вам расскажу по поводу нашего разговора одну татарскую легенду о счастье, которое покидает нередко артистов, отвыкших от серьезного труда в пору их полной славы. Каждый артист должен знать ее наизусть.
Не помню, когда это было, но только очень давно, даже еще ранее того, когда русские люди, вместо всяких письменных обязательств и тяжелых клятв, говорили просто: «Да будет мне стыдно, если я этого не исполню!» Не могу вам сказать, где и случилось это: было ли то на Востоке, на Юге, или где-либо в иной стране, право, не знаю, да и не в том суть, а дело вот в чем:
В бедном татарском майдане, т. е. базаре при деревеньке или поселке, жил бездетный татарин. У него была одна только жена, так как бедность не позволяла ему большей роскоши. Ну, что делать! На все воля Аллаха. Измученные непосильной работой из-за куска хлеба и страха голодной смерти, перебивались они, трудясь изо дня в день, без утешения, без радости, без счастья; но не роптали на своего Аллаха и его Пророка, которому между тем усердно молились. Они были люди благочестивые и милосердные, насколько им позволяла их бедность. За их смирение и терпение Аллах уже на закате дней захотел утешить своих правоверных рабов и послал им в виде награды неожиданное счастье, которое заключалось в том, что престарелая татарка почувствовала себя будущей матерью, о чем и объявила с восторгом своему мужу. Бедный татарин был так же рад, как и его единственная по бедности жена. Много говорили они о будущем своем детище, много благодарили Аллаха и его Пророка за их милости: много также думали, как назвать дитя. Наконец, решили так: если родится мальчик, то назвать его Разумом, если же – девочка, то назвать ее Счастьем. Настало время, и татарка благополучно сделалась матерью. Но вот в чем горе: родилась девочка и к тому же совсем уродец. Это уродливое дитя имело рот, нос, а также все остальное в надлежащей исправности, словом, как у всех правоверных в их стране, но у бедняжки не было глаз, по крайней мере, то место, где надо бы помещаться глазам, у девочки было совсем гладко и никаких признаков органа зрения не замечалось. Всплеснули руками и горько всплакнули татарин с татаркой о таком великом несчастье, но, несмотря на это, все-таки назвали родившуюся Счастьем, так как дали в этом обет Аллаху.
Спустя несколько дней, когда татарка вполне окрепла, встала с своего ложа, или постели, и начала мыть новорожденную, то с удивлением заметила, что у девочки на самой макушке, т. е. на темени, находится глаз и глаз большой, настоящий, который бойко глядит и моргает, к тому же голубой и ясный, как безоблачное небо. Не помня себя от радости, мать побежала в поле, позвала мужа, работавшего там, и сообщила дорогой о радостном открытии и новой милости Аллаха.
Когда они вернулись домой и подошли к девочке, то стали рассматривать со всем вниманием ее единственный, большой глаз. Но чтобы вполне убедиться – видит ли он, татарин надумал следующее: он поднес к открытому глазу зажженную свечу. С тех пор вошло во всеобщее употребление испытывать таким образом зрение. Когда была поднесена свеча к самому глазу девочки, то она сначала прищурила его, затем совсем закрыла от яркого света и теплоты огня. Тогда-то родители, вполне убедившись, что дитя их видит, снова радовались и проливали слезы благодарности.
Время, труд и убогая жизнь потекли своим чередом, а Счастье, т. е. новорожденная девочка, как бы уцепившись за скоро текущее время, также не отставала от него и также быстро росла. Прошел год, другой и третий. Девочка стала ходить и даже похорошела, если только это возможно было при ее уродливости. Впрочем, в глазах родителей к своим детям, так же как и в глазах артистов к своим произведениям, – все возможно: им нередко дурное их детище представляется прелестным, достойным общего внимания, а потому ничего удивительного, что Счастье своим старикам казалась красавицей. Они до того ее любили, что никогда не расставались с ней и брали ее повсюду, даже когда работали в поле. Там они сажали дочь в сторону, и тихая, молчаливая девочка сидела неподвижно, с любопытством смотря на бесконечное голубое небо, где живет Аллах, на быстро несущиеся белые облака, на яркое солнышко, да на кружащихся в высоте лазури могучих орлов.
Время между тем шло своим чередом. Наконец, Счастье выросла. Но кто возьмет безглазую и бедную девушку, хотя бы она и называлась Счастьем? К тому же Счастье была натура исключительная: она созерцала только небо, солнце, луну и звезды. Она не видала ничего на земле, так как не могла наклонять головы, а также и сгибать спины, потому что позвоночный столб ее совсем не гнулся, вследствие этого она видела только великое и бесконечное в высоте.
Она не понимала, что такое труд, что такое горе, страдание, зависть, злоба – все земное ей было незнакомо. О земных же добродетелях и говорить нечего, потому что их и с двумя глазами во лбу не скоро увидишь. Итак, Счастье была чиста и непорочна, как ангел, как гурия, живущая на седьмом небе, в обители и объятиях Аллаха, куда она постоянно смотрела. Правда, что Счастье слышала нередко вокруг себя неистовые крики, брань, стоны, проклятия; но она не видала действий, нераздельных с этими пороками и страданиями человека, и считала слышанные ею вопли и стенания простыми звуками, подобными ветру, воющему в трубе, который беспокоит слух, наводит сон или скуку, но не терзает души чистой и светлой. Преступникам – иначе. Им слышится в каждом звуке завывающего ветра плач и мольбы о пощаде.
В эту пору у Счастья стали являться странные и новые для нее желания, а именно: ей вдруг почему-то непреодолимо захотелось кого-либо ласкать, кого-либо любить. Это тем более было странно, что она, как я уже сказал, не видала ни одного человека, в том числе даже своих родителей.
В один день, когда желание чего-то непонятного было настолько сильно, что она не могла сидеть покойно близ работавших родителей от томившей ее истомы, Счастье встала и, потянувшись, расправила свои онемевшие члены, как бы спросонья.
– Мама, мама! – сказала Счастье. – Мне что-то скучно! Я похожу немного…
Татарка, услыхав новое, что-то необычайное в голосе своей дочери, оставила работу, с испугом посмотрела на милое дитя свое, но не могла ничего прочесть в глазах ее, так как их не было, а потому и сказала, успокоившись, не поняв дочери:
– Иди, мое сердце, моя милая дочка! Иди, пройдись! А я посмотрю, чтоб ты не ушла от нас далеко.
Дочь пошла, как ходят люди в лунатизме, инстинктивно, бессознательно, а мать с любовью смотрела ей вслед. Затем татарка со вниманием осмотрела местность и, уверившись, что повсюду гладко, нет ни рвов, ни острых камней, на которые могла бы упасть ее дочь, принялась работать и так увлеклась своим привычным делом, трудом, что забыла обо всем, даже о милой дочери.
Между тем Счастье шла дальше и дальше, увлекаемая каким-то неясным желанием. Наконец, она вышла на торную дорогу и пошла по ней. Она шла, смотря на небо, а душа ее была полна восторгами и стремлениями к любви. Вдруг она с кем-то столкнулась, что-то преградило ей дорогу. По инстинкту слепых, или людей, идущих в темноте, она протянула вперед руки и схватила ими встретившегося человека. Человек этот был слепой от рождения. Звали его Случай. Он был юноша, пришедший в возраст мужа. Слепой Случай также инстинктивно обнял руками стан девушки.
– Кто ты? – спросила его Счастье.
– Я слепой Случай, – проговорил юноша.
– О нет, нет! – возразила Счастье. – Ты не Случай! Ты что-то другое! Ты моя мечта, ты именно то, чего мне недоставало в моей жизни; ты – то, что волновало мою кровь и лишало меня покоя. Прижмись к моей груди! Поцелуй меня крепче, крепче!
И Случай со Счастьем слились в долгий, горячий поцелуй!
Целый день татарка искала свою дочь. Немало хлопот выпало также и на долю престарелого татарина. Рвали они свои седые волосы, и только уже к вечеру, после отлива горя, затопившего их старые сердца, они, убитые, истерзанные, пошли домой. И вдруг, когда они менее всего надеялись, нашли свою дочь. Они нашли ее – и где же? – на дороге, в объятиях слепого Случая. Не буду рассказывать, как сначала вознегодовали старики: они хотели даже предать проклятию дочь свою. Затем, пришедши домой, сильно грустили о своем позоре, но уже не бранили дочь, а к ночи даже стали утешать свое дитя, которое только и говорило о слепом Случае.
На другой день дочь татарки была до того грустна и тревожна, что родители отправились отыскивать слепого Случая, чтобы привести его и сколько-нибудь утешить дочь свою. Долго повсюду они искали его, но возвратились домой ни с чем, так как Случая не нашли, и успокаивали дочь свою надеждой на будущее – той надеждой, которой живут очень многие люди на белом свете.
После всего прошедшего, Счастье начала понимать, что прекрасное не все только вверху, в небе, в обителях Аллаха, но что есть и на земле такие блаженства, узнав которые никогда нельзя забыть их. В таких-то мечтах время текло. Прошло уже несколько месяцев с той поры, как татарка нашла Счастье в объятиях Случая. Раз, после тревожного сна, Счастье почувствовала что-то странное, что-то небывалое с ней, точно что-то живое, самостоятельное трепетало и шевелилось у нее под сердцем. Не боль и страх ощутила она при этом, нет! – то было другое чувство, скорее напоминающее радость, когда сердце сладко замирает, а также и мысль перестает работать, как бы прислушиваясь к биению сердца. Это явление повторялось с ней несколько дней сряду. Наконец, она сказала об этом матери, которая при ее словах как бы пристыженно опустила голову и грустно сказала:
– Дитя мое! Ты скоро будешь матерью!
Это и исполнилось спустя несколько месяцев. Счастье родила близнецов: мальчика и девочку. Когда молодая мать услыхала в первый раз крик новорожденных, то схватила их и так крепко целовала и прижимала к своему непорочному сердцу, что чуть не задушила их. Затем она поочередно начала поднимать их то одного, то другого кверху и таким образом любовалась своим единственным глазом на милых детей своих, держа их над головой. Жизнь ее с того времени стала полна. Ее душа, всегда парящая в высоте, так же, как и ее зрение, теперь сосредоточивалась больше на детях. Она кормила их зараз, у той же груди они и спали постоянно. А она, счастливая, сидела, прислонившись к чему-либо, смотрела на солнце, звезды, на бесконечное небо, хотя мысль ее и была обращена больше к детям.
Время шло. Дети Счастья подросли. Но тут умерла мать Счастья, а вскоре и отец ее переселился к Аллаху, конечно, только не на седьмое небо. Счастье осталась одна со своими грудными детьми. Она их питала долго одним молоком своим, кормила их таким образом даже и тогда, когда они подросли уже настолько, что в наше время их, наверно, давно бы стали учить письму и чтению. Кто кормил мать, чем питалась Счастье – никому не известно. Сама же она, как вы уже знаете, добыть пищи не могла, а между тем она была всегда сыта и даже настолько, что могла кормить еще двух взрослых детей своих. Велик, велик Аллах! Деяния его – непроницаемая тайна для смертного. Итак, мать была вполне счастлива и все более и более любила и привязывалась к детям.
Но вот в один день поднялся какой-то странный, небывалый шум: что-то гремело, неистово кричало, стонало и охало. Это был именно тот день, когда набежали гяуры, или неверные, на их поселок. Кто были эти неверные, осталось неизвестным, – по всей вероятности, не христиане. Но кто бы там они ни были, только пришедшие люди оказались не ворами или разбойниками, которые обыкновенно грабят, воруют и убивают ночью, во мраке, как бы страшась дел своих; но эти неверные пришли среди дня, когда солнце ярко светило, а птицы весело пели на деревьях. Они пришли и зачем-то сожгли поселок, а всех жителей, в том числе и младенцев, которые могли ходить, увели с собой в плен. Имение же правоверных, тяжелым трудом нажитое, также стало добычею пришедших. Бедная Счастье не могла понять, что происходит вокруг нее, слыша стоны, плач, крик и проклятия, и только когда она увидала черные облака дыму, столбом поднимающегося кверху, к жилищу Аллаха, она протянула руки, чтобы схватить детей, так как почувствовала сердцем матери, что им грозит опасность. Но каково же было ее удивление и ужас, когда она не нашла их около себя! Она громко звала детей, простирая руки и ловя что-то в пустом пространстве; но все было тщетно, – они не находились. Бедная мать в отчаянии упала наземь и вдруг почувствовала, что где-то вдали точно дрожала и гудела земля, и оттуда же слышались стоны и вопли ее детей, словно последние звуки затихающей бури. Она вскочила и порывисто бросилась вперед с распростертыми руками, как бы желая догнать и схватить детей. Что их украли, она не могла догадаться, потому что не имела понятия о воровстве и других пороках и страстях людей: она всегда видела ясное небо, и душа ее была так же светла и прозрачна. Из земного же она знала одно только чувство беспредельной любви.
Итак, Счастье бежала среди дороги, смотрела в небо и разводила, как помешанная, руками, в то же время громко призывая детей:
– Милые дети мои! Где вы, где вы, мои дорогие?!.. Придите, прижмитесь к моему холодеющему сердцу, к сердцу бедной матери!..
По пути вдруг она услыхала шаги, приближающиеся к ней. Скорбная мать вскрикнула от восторга, думая, что это ее дети. Но это были не они, а подошел к ней опять слепой Случай – отец детей, которого она, когда узнала, сильно оттолкнула и хотела идти дальше, но, раздумав, остановилась и спросила его:
– Слепой Случай! Где мои дети? Ты, может быть, знаешь, где они. Скажи мне!
– Да, знаю! – отвечал Случай. – Твоих детей украли.
– Украли! Как украли? Что такое украли?… Но если украли, то где они? Я пойду к ним… Я обниму их…
– О, глупое Счастье! – иронически сказал Случай. – То, что воруют, прячут далеко-далеко и до поры до времени никому не показывают, в особенности же тому, у кого украдено. Вот почему тебе долго и долго не найти их.
– Случай! Укажи мне, по крайней мере, место, где я должна искать их, и объясни, что такое значит: украли. Говори скорее! Не томи меня!
– Хорошо! – ответил Случай и начал объяснять все, доселе Счастью неизвестное. Он объяснял ей не только о воровстве, но и обо всех пороках; но она была настолько выше всего порочного, что не поняла его и, перебив красноречивый рассказ Случая, проговорила:
– Скажи ты мне лучше скорее, где та страна, куда увели детей моих? Я пойду туда, я отыщу их.
– Слушай! – сказал снова Случай. – Я слышал стон, плач и звуки цепей, куда повели пленных; это там!.. – он указал рукой по направлению, которого не могла видеть Счастье.
– Где там? Что ты говоришь? Я не понимаю тебя! – тоскливо проговорила Счастье. – Толкни меня, по крайней мере, в ту сторону, куда я должна идти.
– О мать, отыскивающая детей своих! Ты счастливее меня: я слепой Случай. Ты же говорила мне когда-то, что видишь в высоте бога и его ангелов. Спроси их! Им известно, где твои дети. Они видят с высоты все, я же не вижу ни высоты, ни низу, ничего не вижу. Я живу жизнью других живущих и не могу тебе показать той страны, где твои дети. Один совет могу дать тебе на прощанье, а именно: ищи их там, где больше смеху, веселья и неистовства, а также плача, терзаний и проклятий.
Слепой Случай замолк, а Счастье пошла по дороге, протянув вперед руки, как будто она играла в жмурки и кого-то собиралась ловить.
С тех пор и до настоящего времени бедная мать ходит повсюду и хватает всех, попавшихся навстречу, не разбирая пола, звания и возраста. Ухватив встречного, она любовно берет его за руки и только что прикоснется к нему, как земное счастье окружит и обовьет его – и во всем тому человеку удача, во всем успех, все исполняется по его желанию. А Счастье между тем поднимает и поднимает кверху попавшегося человека; поднимает его – и поднимает затем, чтобы взглянуть на него: не ее ли это пропавшее милое детище. Медленно, очень медленно, трепеща от волнения и радости, Счастье поднимает встречного; иногда же наоборот – порывисто, горя от нетерпения матери – взглянуть на свое дитя, она быстро взмахнет его кверху над головой своей и, усмотрев, что это не ее дитя, с отчаянием и омерзением отбрасывает в сторону поднятого. Она отбрасывает его так же, как человек, нечаянно схвативший жабу или змею.
Понятно ли вам, друзья мои, почему так поступает бедная мать, называемая Счастьем? Если нет, то я вам объясню. Счастье помнит и представляет своих детей такими же, как они когда-то были, т. е. чистыми, непорочными, добрыми и невинными, как любовь отрока, и вдруг поднятый ею являет из себя что-то другое – не ее мечту о прекрасном и непорочном, а что-то гадкое, грязное, бессердечное, напитанное пороками, словно губка водой. Хотя все порочное непонятно для Счастья, но, тем не менее, оно вселяет ей инстинктивное отвращение, и она с ужасом бросает поднятого ею человека, только что окруженного земным счастьем, земной славой. Отбросив несчастного, мать идет дальше и дальше, без конца, и проделывает то же со всеми, кто ей встретится: будет ли то артист, генерал, купец или крестьянин, светская барыня, красивая актриса или модная камелия, – словом, со всеми, кого она поймает. И вот в чем горе наше: увернуться от нее человеку никак нельзя, так как она невидима для смертного.
До сих пор еще Счастье не находит детей своих и не найдет их никогда. Бедной матери не суждено найти их, потому что если б и случилось ей встретить детей своих, то она все-таки их не узнает: так они изменились физически и нравственно.
Вот, господа, та легенда, которую я хотел рассказать вам и которую советовал бы знать всем артистам для того, чтобы уяснить себе, насколько непрочно счастье, поднимающее артиста, не горящего чистой любовью к высокому искусству. Горе брошенному, увлекшемуся удачами и не подозревающему, как они непрочны и откуда происходят. Вернуть же раз ушедшее счастье или отыскать его вновь невозможно; это еще труднее, чем одноглазой матери найти украденных» детей своих.
Я кончил мою легенду. Простите старика за болтливость – его естественную слабость… В новый год от всей души желаю вам полного успеха, не боюсь даже пожелать вам встречи со счастьем. Не увлекаясь модой, глубоко изучайте жизнь, а главное, горите всей любовью к искусству. При этом условии вы никогда не будете огорчены, будучи покинуты Счастьем. Правда, нелестно быть непризнанным детищем такой любящей и непорочной матери, как Счастье; но утешайтесь, друзья мои, тем, что Счастье есть совершенство – и совершенство, быть может, только потому, что она не могла наклонять головы, а следовательно, и видеть окружающее; а также и потому, что Счастье имеет единственный глаз на макушке, который устремлен постоянно в небо, где живет бог.
Проговорив последние слова, старик торопливо встал, крепко пожал всем артистам руки и пошел, шмыгая мягкими подошвами по деревянному полу, слабея с каждым шагом и все бессильнее и бессильнее наклоняя голову. Что-то скорбное было в его лице, и действительно, скорбь его была не напрасна: он уходил навсегда и к тому же в таинственную вечность, так как старик этот был не кто иной, как старый год, господа.
Медовый праздник в Москве
Шумно и пыльно на Трубной площади в Спасов день первого августа.[34] Еще накануне заметно там больше движения, шуму и ругани, чем в обыкновенное время. Ни один проходящий не упускает случая потаскаться там и позевать на торопливые приготовления к празднику. Мальчишки, растрепанные, грязные, еле одетые и босые, стоят толпами и, погрузясь в созерцание, забыли все: и строгий наказ хозяина «слетать мигом», и неизбежную награду за медленное исполнение возложенного на них поручения. Да и нельзя было не забыться и не засмотреться на все то, что делалось в этот день на Трубной площади…
Загорелой рукой, перепутанной жилами, как веревками, вооруженный ломом пуда в два, неугомонный человек выворотил камни, покойно лежавшие на площади, а в вырытых ямах воздвиг и укрепил круглые столбы. На столбах легли перекладины; сверху поставили стропила, и не прошло часа, как явилась на свет божий наскоро сколоченная и обтянутая парусиной клетка, называемая балаганом. За первым балаганом построился второй, а за ним третий и так далее и далее потянулись они справа до самой горы, где начинается бульвар. Налево же поместились коньки всех цветов и видов; между ними повисли, качаясь, зеленые ящики, называемые каретами; подальше стояли качели, а еще дальше приютился и Петрушка с вечными своими – цыганом, квартальным и доктором. За качелями скромно в сторонке построились походные рестораны с продажею пива и меда. Итак, вся эта местность превратилась в какой-то игрушечный город. Посреди его была и площадь. Только не собор красовался на ней и не присутственные места окружали ее, а посреди всего этого разнообразия воздвигся и прикрепился к земле в виде паутины так называемый колокол с продажею зелена вина – красы буйного веселья всякого народного гулянья.
Наступил вечер. Все это временное население устроилось, измучилось и, промочив свое засохшее от крику, ругани и пыли горло, мирно отдыхало. Любопытные останавливались реже; мальчишки получили воздаяние по делам своим и, всхлипывая, засыпали. Все успокоились в сладкой мечте о завтрашнем удовольствии, а кто и о выручке.
– Какой-то на завтра господь денек пошлет? – думает магик, превращающий цветы в яичницу и проделывающий разные другие волшебства. – Солнышко село чисто, не в тучу! Быть вёдру! – Он еще раз взглянул на потемневшее небо, набожно перекрестился и лег, а вскоре заснул так покойно, как будто и не волшебник.
Все затихло, и только кое-где выли привязанные собаки.
Наконец настал давно ожидаемый день. Солнце как будто запоздало в это утро, и когда оно выглянуло из-за домов и церквей, то застало всех в страшной суматохе. Лучи его, скользнув по крышам больших каменных домов, осветили боковую сторону крайнего балагана и, пробившись внутрь его, уперлись в занавес, на котором был изображен кто-то вроде Аполлона с лирой в руке и с искалеченными ногами. Другие же лучи скользнули по работавшему народу, прихотливо осветив где лысую голову, а где вскинутые кверху руки с блестящим топором. Все грязное казалось цветным и ярким. Вся площадь, изрезанная тенями, была как будто вызолочена под чернеть. Валявшиеся стекла блестели, как бриллианты, а столы с лотками и корытцами, наполненными сотовым медом, казались кусками золота. Повсюду, жужжа, летали пчелы и жалили всех, защищая плод трудов своих; но, выбившись из сил, они тут же падали и хрустели под ногами хлопотавших хозяев. По всей площади пахло медом. Но никто не обращал внимания ни на что, кроме своей работы; да и работа кипела и приближалась к концу. Кой-где еще приколачивали последнюю доску, отпиливали конец длинного шеста, поднимали вывески с такими изображениями, на которые смотреть было страшно. А солнце поднималось все выше и выше.
Вот загудел большой колокол в соседнем монастыре, мягко разливаясь по всему окружающему пространству. Кончилась и обедня. Народ толпами повалил к месту удовольствия. Со всех сторон бегут мальчишки. Посмотрите направо. В облаке пыли, задрав кверху голову, как дикий конь, преследуемый стаей голодных волков, несется с товарищами в растерзанном виде и без копейки денег кривой Петька. Он порывисто дышит от быстрого бегу, а в груди его хлюпит, как в грязном чубуке. Чудак этот Петька! Карманы его полны бабок. Он худ и грязен, зачастую и голоден, но всегда доволен и весел. Многие дивятся, как это не оторвется его голова: так тонка и худа его искусанная блохами шея. По ремеслу – он сапожник, по званию – мещанин. Все бьют и ругают Петьку, и только ленивый его не трогает.
– Поди сюда, кривой черт! – кричит ему какой-нибудь загулявший из их артели мастер.
Петька уставится быком и не двигается.
– Поди, говорят тебе!.. Сам встану, хуже будет!
Петька делает шаг вперед и опять останавливается.
– Подойди ближе! Ну еще… еще! – рычит пьяный мастер и, схватив за волосы, всегда всклокоченные, оттреплет ни за что ни про что мальчишку, так, ради шутки. Если не очень больно, то Петька только обругается, а если уж очень невтерпеж, то уйдет под лестницу и горько там плачет. А наплакавшись вдоволь, опять весел и даже счастлив и, не умывшись, так и бегает полосатым от катившихся слез по грязному лицу. Все бьют Петьку, от кухарки до хозяина, а иногда даже и посторонние; но он не тужит. Вот несется теперь Петька на гулянье в полном восторге, а волосы его все еще не улеглись от последней трепки.
Плетется и Калиныч, старик из богадельни. Ему уже лет за семьдесят. Он слаб на ногах, да и плоховато видит, но не пропускает почти ни одного гулянья. Долго плетется он до гулянья и во всю дорогу шевелит губами, точно ими что-то хочет раздавить твердое. На нем полосатый халат и картуз на вате, с козырьком чуть не в заслонку. В правой руке клюка, а в левой – корзинка, в которую он постоянно собирает выброшенные апельсинные и лимонные корки, посушив которые на солнце, пьет с ними чай и даже угощает товарищей. Спешит и артель позолотчиков, запоздавшая из-за расчета с хозяином. А вот почти бегом валит ватага фабричных, неистово толкая всех и каждого; и ломят они напролом, не слушая, что их клянут все встречные. Показались и монахини, подходя к каждому и прося пискливо на «украшение храма божия». Отовсюду спешит и прибывает народ православный на медовый праздник. Площадь наполняется все больше и больше.