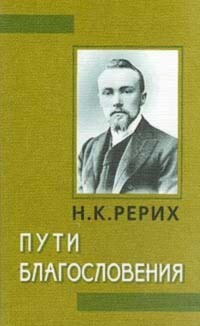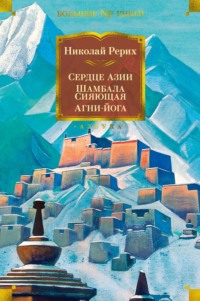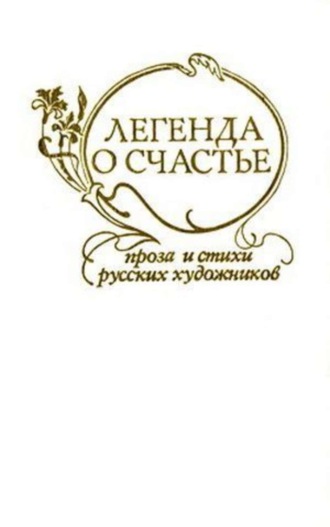 полная версия
полная версияЛегенда о счастье. Стихи и проза русских художников
– Да так и во вся времена было. Еще Стоглав велит почитать живописателей «паче простых человек».
– А что такое паче? коли перед простым человеком шапку ломаешь, то перед иконником надо две сломать?
– И кто есть простой человек? Я скажу, что сам боярин при живописателе человек простой, ибо ему бог не открыл хитрости живописной.
– Коли не твоего разума дело – не суесловь: всякому ведомо, что есть почитание иконописцев, честных мастеров. Почитаются они и отцами духовными, и воеводами, и боярами, и всеми людьми, – вступился старик, – и похваляется тем, что сам антиохийский патриарх Макарий челом бил государю на присылке икон, вот-де каково русское иконописание, а того не вспомнил старый, что патриарху иначе и негде было бы удобнее докучиться об иконах. Впрочем, это рукоделию московских изографов – не в укор сказано. Говорят и дивуются мастера, как выходец шаховой земли изограф Богдан Салтанов поверстан по московскому дворянскому списку; такому делу, чтобы иконник верстался в дворяне, – еще не бывало примера. О Салтанове голоса разделились: одни подумали, что пожалован он за доброе художество, другие подумали, что за принятие православной веры. От шахового выходца Салтанова заговорили и о прочих всяких иноземцах; вспомнили, как непочтительно отнеслись некоторые из иноземцев к благословению патриарха и как за то патриарх разгневался и приказал им по одеже быть отличными от русских людей. Одни не прочь и за иноземцев, а другие на них, – зачем-де часто великий государь жалует заморских мастеров лучше, чем своих, а по художеству и свои, часом, не хуже взбодрят.
– Вон-поди, Лопуцкого[82] мастера хвалили, нахвалили, а он того доучил, что сами ученики его челобитье подали, как мастер их живописному мастерству не учил. И была то не выдумка, а правда, после чего поотнимали у него учеников и отдали Даниле Вухтерсу.[83]
Особенно нападает на заморских мастеров длинный иконник с ременным венчиком на прямых льняных волосах; по его речи выходит, что нечего иноземцам потворствовать, коли своим жалованья не хватает, и указывает он на Ивашка Соловья, иконника оружейной палаты, отставленного за скорбь[84] и старость и как скитался он сам-четверт с женишкою и с робятишки между двор, где день, где ночь, и наги, и босы, о чем и челобитье писал Соловей государю и просился хоть в монастырь поступить.
Но длинному возражают, на память приводят, как государь и патриарх входят даже в самые мелкие нужды иконников, коли до них дело доходит:
– Так-таки и отписал патриарх: Артем побил мужика Панку, от воров боронясь, хотя бы и больше перерезал, от них боронясь, все же малая его вина.
– Что говорить, грех государю, коли об иноземцах паче своих бережение имеет, – и свои государеву пользу блюдут накрепко: Ушаков как отрезал, – боярам сказал, что грановитые палаты вновь писать самым добрым письмом прежнего лучше или против прежнего в такое время малое некогда: приходит время студеное, и стенное письмо будет не крепко и не вечно. И ведь все думали, что переписывать осенью станут, а как Симон-от отрезал, так и отложили.
IIIДвери Иконного терема висят на тяжелых кованых петлях, лапка петель длинная, идет она во всю ширину двери, прорезная узором. Заскрипели петли – отворилася дверь, пропустила в терем старых изографов и с ними боярина и дьяка. Пришли те именитые люди с испытания. Сего ради дела изографы разоделись в дорогую, жалованную одежу: однорядки с серебряными пуговицами, ферези камчатные с золототкаными завязками, кафтаны куфтерные, охабни зуфные, штаны суконные с разводами, сапоги сафьяновые – так знатно разоделись изографы, так расчесали бороды и намазали волосы, что и не отличишь от боярина.
На испытание вологжанин, крестьянский сын Сергушко Рожков, написал вновь иконного своего художества воображение: на одной дцке образ Всемилостивого Спаса, Пречистыя Богородицы и Иоанна Предтечи. И по свидетельству московских изографов Симона Ушакова с товарищи, Сергушко оказался мастер добрый. Иконники окружают нового товарища, спрашивают, кто у него поручники, потому за новопринятого должны поручиться иконники бывалые, должны поручиться в том, что если Сергушко у государевых иконописных дел быть не учнет или сбежит, или забражничает, и на поручиках пеня государя царя; расспрашивают, откуда Сергушко родом; каково теперешнее художество на Вологде, как живут мастеры вологодские, и слушают Сергушкины сказки.
Сергушко сказывает, что Матвей Гурьев иконник обманом ушел из Знаменского монастыря с Вологды и живет на Тотме, Агей Автомаков да Дмитрий Клоков устарели, Сергей Анисимов стемнел,[85] а которые иконники сверх того есть, и те у государева иконного, и у стенного, и не у каково письма не бывают, потому что стары, и увечны, и писать никакого письма не видят, и разошлися в мир для ради недороды хлебные кормиться Христовым именем, ибо люди они старые, и увечные, и скудные, и должные. Слушают иконники невеселыя вологодские сказки, глядят на старый кафтан Сергушкин; неуместен такой кафтан в светлом тереме, смешны заплаты при золототканых окрутах.[86] Помялись, потупились и опять расспрашивают Сергушку, каким письмом пишут иконы по вологодским селам и заглушным местам, не пишут ли там иконы с небрежением, лишь бы променять темным поселянам невеждам? Хранят ли древние переводы?[87] – об этом-де дал государь грозную грамоту, когда дошла до него весть о неискусных живописцах Холуйских.
С окольничим разговаривает только что вошедший в терем заморский мастер цесарской земли Данило Вухтерс; подошел он к боярину с низкими поклонами, хитро выгибая тонко обутые ноги, и говорит (толмач переводит), а смысл его речи такой, что только, мол, ради пресветлой неизреченной милости царя и многомилостивого и похвального жалованья решился он на трудную поездку в Московию; улаживается Вухтерс с боярином, сколько он будет получать жалованья; порешили: будет получать Вухтерс – денег 20 рублей, ржи 20 четвертей, пшеницы 10, круп грешневых четверть, гороху две чети, солоду 10 четей, овса 10 четей, мяса 10 полоть, вина 10 ведер. Поскулил Вухтерс набавить 5 белужек да 5 осетров – набавили и напишут поручную – будет Вухтерс учить русских мастеров писать мастерством самым мудрым.
Отошел боярин от Вухтерса и теперь решает с дьяком и с жалованными мастерами: откуда способнее вызвать иконников на время росписи Успенского собора, ибо для этой работы не хватит теремных и городовых мастеров московских. Степенно приказывает боярин дьяку:
– Изготовь, Артамон, грамоту во Псков, чтобы сыскали по росписи и сверх росписи иконописцев всех, что ни есть: и посадских людей, и боярских, и княжеских, и монастырских, и торговых, и всяких людей, У кого ни буди, только чтобы стенному церковному письму прорухи не было.
Сыскать и вызвать мастеров надо не спроста, надо наблюсти строгую очередь, иначе будут жалобы, что-де иным иконописцам в дальних волокитах чинятся многие убытки и разоренье, а других вовсе к стенному письму не емлют. Хорошим мастерам везде дело есть; добрыми мастерами всякий дорожит; с великим нехотеньем отпускают их в ненасытную Москву. Лишь бы сохранить иконника, – и воеводы, и даже духовные люди – игумены и архиереи – идут на обман, готовы сообщить в государев терем облыжные сведения, нужды нет, что их уличат в бездельной корысти и шлют к ним самопальных[88] с грозными указами, а святые отцы и государевы слуги все же покажут добрых мастеров в безвестном отсутствии и укроют их в монастырских кельях – уж такая всюду необходимость в истинствующих иконниках.
IV– Смилуйся, пресветлый боярин, не дай вконец разориться! – пробирается к боярину ободранный мужичонка и, дойдя, кланяется земно.
– Докучаюсь тебе, боярин, о сынишке моем, иконной дружины ученике. Смилуйся, отец, на парнишку! Вконец изведет его мастер корысти ради, и грозы нет на него, потому и сбежать от него невозможно – больно велика пеня показана. Вот и список с поручной…
Дьяк принимает поручную; молча просматривает ее, сквозь зубы процеживает: «дожив своих рченых лет не сбежать и не покрасть» – и вполголоса читает боярину:
– «…а будет сын его, Ларионов, не дожив урочных лет, от меня пократчи сбежит, взяти мне в том Ларионе по записи за ряду двадцать рублей». Да, пеня не малая проставлена, уж пятнадцать рублей и то большая пеня, а двадцать и того несообразнее. А дело-то в чем? – расспрашивает дьяк, недовольный, что судбище будет при всех, при боярине, и не придется ему, дьяку, распорядиться с челобитчиком по-своему, по-приказному, и не будет ему, дьяку, никакой пользы.
– Бью челом на мастера иконного Терентия Агафонова, – зачастил мужичонка, – что взял парнишку моего в учение, и тому пошел без малого год третий, а живописному письму не учил, только выучил но дереву и по полотнам золотить. И ученье мастера этого негожее; учит он не в ученика пользу, а в свою; примеры телесные дает неверные, ни ографить, ни знаменить искусно, ничему не учил. А что парнишко напишет добрым письмом по своему разумению, и то мастер альбо похуляет, альбо показует работою ученика иного, своего племянника, и моему парнишке ни пользы, ни чести не выходит. И на том смилуйся, боярин, и пожалуй взять мне парнишку моего Ларивонку домой без пени! – кланяется мужичонка, а позади его выдвигается тощий человек в темной однорядке и, заложив руку за пазуху, кашлянув, переминаясь, начинает:
– И в учении Стоглавого собора в главе 43 сказано есть: «аще кому не даст бог такового рукоделия, учнет писати худо или не по правильному завещанию жити, а мастер укажет его горазда и во всем достойна суща и показует написание инаго, а не того, и святитель, обыскав, полагает такового мастера под запрещением правильным, яко да и прочие, страх приимут и не дерзают таковая творити». Сказано есть во Стоглаве, а посему повинен мастер Агафонов, что дружит ко своему племяннику и тем неправое брежение к государеву делу имеет. Племяннику его не открыл бог рукоделия, и коли Агафонов своею нелепою хитростью устроит племянника своего в Тереме, и на том царскому делу поруха…
– А ты что за человек? – перебивает его дьяк.
– Он, значит, свояк мой Филипко; парнишку моего жалко ему. Ен, парнишко-то, добрый, да вот неудача в мастере вышла, прости создатель! А что Агафонов на племяннике на своем душою кривит, – это точно, и племянник-от его живет бездельно, беспутно щапствует,[89] а парнишко мой за него виноват.
– Челобитье твое большое и хитрое, – нахмуривается боярин (и нахмуривается не тому, чтобы жалел царское дело, а тому, что не скоро придется ему уйти из терема домой). – На народе негоже судиться, идите в Приказную избу; туда позвать и Терентия; он где работает? здесь? – распорядился боярин.
– Терентий не в тереме сейчас пишет, а в пещерах от Красного крыльца.
– Посылайте за ним; пусть не мешкает, бросает работу и бегом идет в Приказ, – уходит боярин, с ним дьяк и челобитчики.
Иконники притихли; знают, что над товарищем стряслося недоброе, но знают и то, что недоброе это заслужено, хотя не только Терентию, а, и некоторым иным мастерам грозит та же гроза за дружество и милость к своим родным.
– Да, – решает Симон Ушаков, а все знают, что Симон зря слова не скажет, – все то корысть, все то щапство, а любви к делу не видно. Продает Терентий хитрость свою живописную, богоданную, только о себе думает: и поделом ему, коли наложат на него прещение, и будет он сидеть без работы. Не завидуй; веди своего ученика честно, не криви душой, не укрывай таланта. Недаром не любили молодые Терентия!
Молчат иконники; многие понурили головы, глядят на работу, не поднимают глаз. Думается им: «хорошо говорить Симону, не все такие, как он», а в душе они уже не любят Ушакова, зачем он знатен в художестве, зачем все слушают его, зачем он говорит правдивое слово. Но, слава богу, думают так не все и больше половины искренно кивают головою Симону на добром слове его. Такими мастерами, как Симон, и держится живописное дело. Теперь не так скоро опять загудит говор, не так скоро усмехнется кто-нибудь. В полдень отобедают, отпаужинают,[90] а там и до конца работы недолго.
В углу старый иконник – борода крупными куделями упала на грудь, нос сухой с горбинкой, глаза глубоко запали в орбитах – протяжно ударяя на «о», поучает молодого:
– …дали ему святую воду и святые мощи, чтобы, смешав святую воду и святые мощи с красками, написал святую и освященную икону. И он писал сию святую икону и только по субботам да воскресеньям приобщался пищи и с великим радением и бдением в тишине великой совершил ее…
«Что-то Оленка?» – мелькает о человеческом у молодого, а изограф уже угадывает его мысли, еще строже впивается в него своими стальными глазами и твердит внушительно:
– Спаси бог нынешних мастеров! Многие от них пишут таковых же святых угодников, как и они сами: толстобрюхих, толсторожих, и руки и ноги яко стульцы у кажного. И сами живут не истинно, не памятуют, да подобает живописцу быть смиренну, кротку, благоговейну, не празнословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабежнику, не убийце, но и паче ж хранити чистоту душевную и телесную со всяким опасением. А не можешь тако пробыти до конца, то женись по закону и браком сочетайся и приходи ко отцем духовным и во всем извещайся, и по их наказанию подобает жити в посте и молитвах и воздержании со смиренномудрием, кроме всякого зазора и с превеликим тщанием пиши образ господа; да мятутся люди страстями телесными, ты же, духовно ревнуя ко славе честного художества, подвизайся кистию и словом добрым. Не всякому дает бог писати по образу и подобию, и кому не дает – им вконец от такового дела престати, да не божие имя такового письма похуляется. И аще учнут глаголати: «мы тем живем и питаемся» – и таковому их речению не внимати. Не всем человеком иконописцем быти: много бо и различно рукодействия по даровано от бога, им же, человеком, препитатись и живым быти и кроме иконного письма… – поучает мастер.
Закату не осилить слюдяных оконцев. В Тереме темнеет. Расходятся иконники. Не блестят венчики и узоры на ризах. Дрожат темные очертания ликов, и острее сверкают большие белые очи угодников. Сумрак ползет из углов, закутывает серым пологом запасы иконных досок и холстины, мягчит тени станков. Истово и мерно звучит поучение о добром живописном рукоделии.
Творится в Иконном тереме хитрое и красное дело.
По пути из варяг в греки
Плывут полунощные гости.
Светлой полосой тянется пологий берег Финского залива. Вода точно напиталась синевой ясного, весеннего неба; ветер рябит по ней, сгоняя матово-лиловатые полосы и круги. Стайка чаек спустилась на волны, беспечно на них закачалась и лишь под самым килем передней ладьи сверкнула крыльями – всполошило их мирную жизнь что-то мало знакомое, невиданное. Новая струя пробивается по стоячей воде, бежит она в вековую славянскую жизнь, пройдет через леса и болота, перекатится широким полем, подымет роды славянские – увидят они редких, незнакомых гостей, подивуются они на их строй боевой, на их заморский обычай.
Длинным рядом идут ладьи; яркая раскраска горит на солнце. Лихо завернулись носовые борта, завершившись высоким, стройным носом-драконом. Полосы красные, зеленые, желтые и синие наведены вдоль ладьи. У дракона пасть красная, горло синее, а грива и перья зеленые. На килевом бревне пустого места не видно – все резное: крестики, точки, кружки переплетаются в самый сложный узор. Другие части ладьи тоже резьбой изукрашены; с любовью отделаны все мелочи, изумляешься им теперь в музеях и, тщетно стараясь оторваться от теперешней практической жизни, робко пробуешь воспроизвести их – в большинстве случаев совершенно неудачно, потому что, полные кичливого, холодного изучения, мы не даем себе труда постичь дух современной этим предметам искусства эпохи, полюбить ее – славную, полную дикого простора и воли.
Около носа и кормы на ладье щиты привешаны, горят под солнцем. Паруса своей пестротою наводят страх на врагов; на верхней белой кайме нашиты красные круги и разводы; сам парус редко одноцветен – чаще он полосатый: полосы на нем или вдоль или поперек, как придется. Середина ладьи покрыта тоже полосатым наметом, накинут он на мачты, которые держатся перекрещенными брусьями, изрезанными красивым узором, – дождь ли, жара ли, гребцам свободно сидеть под наметом.
На мореходной ладье народу довольно – человек 70; по борту сидит до 30 гребцов. У рулевого весла стоят кто посановитей, поважней, сам конунг там стоит. Конунга можно сразу отличить от других: и турьи рога на шлеме у него повыше, и бронзовый кабанчик, прикрепленный к гребню на макушке, отделкой получше. Кольчуга конунга видала виды, заржавела она от дождей и от соленой воды, блестят на ней только золотая пряжка-фибула под воротом да толстый браслет на руке. Ручка у топора тоже богаче, чем у прочих дружинников – мореный дуб обвит серебряной пластинкой; на боку большой загнувшийся рог для питья. Ветер играет красным с проседью усом, кустистые брови насупились над загорелым, бронзовым носом; поперек щеки прошел давний шрам.
Стихнет ветер – дружно подымутся весла; как одномерно бьют они по воде, несут ладьи по Неве, по Волхову, Ильменю, Ловати, Днепру – в самый Царьград; идут варяги на торг или на службу.
Нева величава и могуча, но исторического настроения в ней куда меньше по сравнению с Волховом. На Неве берега позастроились почти непрерывными, неуклюжими деревушками, затянулись теперь кирпичными и лесопильными заводами, так что слишком трудно перенестись в далекую старину. Немыслимо представить расписные ладьи варяжские, звон мечей, блеск щитов, когда перед вами на берегу торчит какая-нибудь самодовольная дачка, ну точь-в-точь – пошленькая слобожанка, восхищенная своею красотою; когда на солнышке сияют бессмысленные разноцветные шары, исполняющие немаловажное назначение – украсить природу; рдеют охряные фронтоны с какими-то неправдоподобными столбиками и карнизами, претендующими на изящество и стиль, а между тем любой серый сруб – много художественнее их.
За всю дорогу от Петербурга до Шлиссельбурга выдается лишь одно характерное место – старинное Потемкинское именье Островки. Мысок, заросший понурыми, серьезными пихтами, очень хорош; замкоподобная усадьба вполне гармонирует с окружающим пейзажем. Уже ближе к Шлиссельбургу Нева на короткое время как бы выходит из своего цивилизованного состояния и развертывается в привольную, северную реку – серую, спокойную, в широком размахе, обрамленную темной полосой леса. Впрочем, это мимолетное настроение сейчас же разбивается с приближением к Шлиссельбургу. Какой это печальный город! Какая закорузлая провинция, – даже названия улиц, и те еще не прививаются среди обывателей.
Левее города за крепостью бурой полосой потянулось Ладожское озеро. На рейде заснуло несколько судов. Все как-то неприветливо и холодно, так что с удовольствием перебираешься на громоздкую машину, что повезет по каналу до Новой Ладоги. Накрененная набок, плоскодонная, какой-то овальной формы, с укороченной трубой, она производит впечатление скорей самовара, чем пассажирского парохода, но все ее странные особенности имеют свое назначение. Главное украшение парохода – труба – срезана, потому что через пароход часто приходится перекидывать бечевы барж, идущих по каналу на четырех лохматых лошаденках; глубина канала заставляет отказаться от киля и винта; тенденция к одному боку является вследствие расположения угольных ящиков, а почему их нельзя было распределить равномернее – этого мне не могла объяснить пароходная прислуга.
Затрясся, задрожал пароход, казалось, еще больше накренился набок, и мы тронулись по каналу параллельно Ладожскому озеру с быстротою 6 верст в час. Случайный собеседник, знакомый с местными порядками, успокаивает, что, вероятно, придем вовремя, если не сцепимся со встречною баркою или не сядем на мель, – и то и другое бывает нередко.
Через вал канала то и дело выглядывает горизонт Ладожского озера. Среди местных поверий об озере ясно сказывается влияние старины: озеро карает за преступления.
Подобные рассказы сводятся к следующему типу. Позарился мужичок на чужие деньги, убил своего спутника во время пути в Ладогу по льду и столкнул труп на лед. Сам поехал дальше и заснул. Просыпается, – уже ночь; поднялся ветер, снег дочиста сдуло со льда; понесло мужика вместе с лошадью прочь с дороги неведомо куда. Увидал мужик, что дело плохо, потому что при сильном ветре бог весть как далеко занести может и, чего доброго, в полынью попадешь; отпряг он лошадь, вывернул оглобли, заострил концы и пошел по знакомым приметам: пускай и лошадь, и санки, и все пропадает, лишь бы самому от смерти уйти. Крепчает ветер, слепит вьюгой глаза, затупились колья, не цепляются они больше за лед, и мужика понесло по ветру. Среди снежного моря зачернелось что-то, ближе и ближе – прямо на чернизину летит мужик. Смотрит, перед ним убитый товарищ; хочет свернуть в сторону – не слушаются ноги, зацепают за труп, подламывается лед, и убийца вместе с убитым тонут в озере. Интересный осколок новгородских былин! Последняя картинка этого. эпизода, когда роковым образом встречаются убийца со своею жертвою, – очень художественна.
По правую сторону парохода низкая болотная местность; среди нее где-то, по словам местного пассажира, притаилась богатая раскольничья деревня, пробраться в которую можно лишь в удобное зимнее время. Небось, в таком уголке сохранилось немало интересного: и песни, и поверья, и окруты старинные, – делается обидно, почему теперь не зима. Мимо тянутся баржи, носы часто разукрашены хитрыми резными коньками, невольно напрашивающимися на параллель с Байёкским[91] ковром. С одной грузной беляной стряслась беда, – затонула, широко расплылись массы дров. На берегу примостился ее экипаж, выстроили шалашик, развели огонь, варят рыбку, мирно и спокойно, словно и зимовать здесь собрались.
Серый, однообразный пейзаж тянется вплоть до самой Новой Ладоги. Сравнительно поздно возникшая, она, конечно, не может дать ни художественного, ни исторического материала; за ней впереди чуется что-то более значительное: в 12-ти верстах от нее историческое гнездо – Старая Ладога. Скучно дожидаться волховского парохода, – торопясь, на почтовых, скачешь туда по прекрасной шоссированной дороге. Слева местами выглядывает Волхов – берега песчаные, заросли сосной и вереском. Потом дорога возьмет правее и пойдет почти вплоть до самой Старой Ладоги по обычному пологому пейзажу, с лесом на горизонте. Из-за бугра выглянули три кургана – волховские сопки. Большая из них уже раскопана, но со стороны она все же кажется очень высокой. Взбираемся на бугор – и перед нами один из лучших русских пейзажей. Широко развернулся серо-бурый Волхов с водоворотами и светлыми хвостами течения посередине; по высоким берегам сторожами стали курганы, и стали не как-нибудь зря, а стройным рядом один красивее другого. Из-за кургана, наполовину скрытая пахотным черным бугром, торчит белая Ивановская церковь с пятью зелеными главами. Подле самой воды – типичная монастырская ограда с белыми башенками по углам. Далее – в беспорядке – серые и желтоватые остовы посада, вперемежку с белыми силуэтами церквей. Далеко блеснула какая-то главка, опять подобие ограды, что-то белеет, а за всем этим густо-зеленый бор – все больше хвоя; через силуэты елей и сосен опять выглядывают вершины курганов. Везде что-то было, каждое место полно минувшего. Вот оно, историческое настроение.
Когда вас охватывает настроение, словно при встрече с почтенным старцем, невольно замедляете походку, голос становится тише и, вместе с чувством уважения, вас наполняет какой-то удивительный покой, будто смотрите куда-то далеко, без первого плана.
Поэзия старины, кажется, самая задушевная. Ей основательно противопоставляют поэзию будущего; но почти беспочвенная будущность, несмотря на свою необъятность, вряд ли может так же сильно настроить кого-нибудь, как поэзия минувшего. Старина, притом старина своя, ближе всего человеку… Именно чувство родной старины наполняет вас при взгляде на Старую Ладогу. Что-то не припоминается в живописи ладожских мотивов, а между тем сколько прекрасного и типичного можно вывезти из этого забытого уголка – осколка старины, случайно сохранившегося среди окрестного мусора, и как легко и удобно это сделать. (Совершить такую поездку, как видно из приведенных подробностей пути, чрезвычайно просто.)
Мне приходилось встречать художников, пеняющих на судьбу, не посылающую им мотивов.
«Все переписано, – богохульствуют они, – справа ли, слева ли поставлю березку или речку, все выходит старо. Вам, историческим живописцам, хорошо, – у вас угол непочатый, а нам-то каково, современным, и особенно пейзажистам».
Вот бедные! – они не замечают, что кругом все ново бесконечно, только сами-то они, вопреки природе, норовят быть старыми и хотят видеть во всем новом старый шаблон и тем приучают к нему массу публики, извращая непосредственный вкус ее. Точно можно сразу перебрать неисчислимые настроения, разлитые в природе, точно субъективность людей ограничена? Говорят, будто нечего писать, а превосходные мотивы, доступные даже для копииста и протоколиста, остаются втуне, лежат под самым боком нетронутыми.