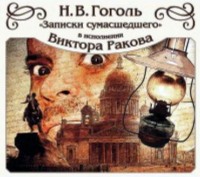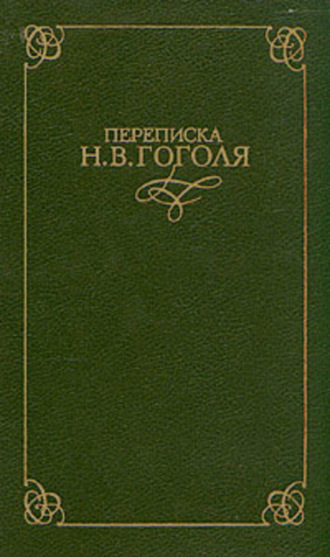 полная версия
полная версияПереписка Н. В. Гоголя. В двух томах
Итак, благословясь, поезжайте с богом в Петербург. Бенефис ваш будет блистателен. Не глядите на то, что пиеса заиграна и стара. Будет к этому времени такое обстоятельство, что все пожелают вновь увидать «Ревизора»[1009], даже и в том виде, в каком он давался прежде. Сбор ваш будет с верхом полон. Поговорите с Сосницким, чтобы увидать, можно ли то же самое сделать и в Петербурге, сколько возможно таким образом, как в Москве. Прежде его испытайте: он немножко упрям в своих убеждениях. Скажите ему, что это стыдно и не в христианском духе иметь такое гордое мнение в своей безошибочности и что он первый, если бы только захотел истинно постараться о том, чтобы последняя сцена вышла так, как ей следует быть, она бы сделалась чистая натура. Не приметил бы зритель никакой искусственности и принял бы ее за вылившуюся непринужденно. Скажите ему, что для русского человека нет невозможного дела, что нет даже на языке его и слова нет, если он только прежде выучился говорить всяким собственным страстишкам: нет.
Письмо это дайте прочесть Шевыреву, так же как и самую «Развязку «Ревизора», и о получении всего этого уведомьте меня тот же час, адресуя в Неаполь, poste restante.
Весь ваш Г.
Гоголь – Щепкину М. С., 4(16) декабря 1846
4 (16) декабря 1846 г. Неаполь [1010]
Декабря 16. Неаполь.
Вы уже, без сомнения, знаете, Михал Семенович, что «Ревизора» с «Развязкой» следует отложить до вашего бенефиса в будущем, 1848 году[1011]. На это есть множество причин, часть которых, вероятно, вы и сами проникаете. Во всяком случае, я этому рад. Кроме того, что дело будет не понято публикою нашею в надлежащем смысле, оно выйдет просто дрянь от дурной постановки пиесы и плохой игры наших актеров. «Ревизора» нужно будет дать так, как следует (сколько-нибудь сообразно тому, чего требует по крайней мере автор его), а для этого нужно будет время. Нужно, чтобы вы переиграли хотя мысленно все роли, услышали целое всей пиесы и несколько раз прочитали бы самую пиесу актерам, чтобы они таким образом невольно заучили настоящий смысл всякой фразы, который, как вы сами знаете, вдруг может измениться от одного ударения, перемещенного на другое место или на другое слово. Для этого нужно, чтобы прежде всего я прочел вам самому «Ревизора», а вы бы прочли потом актерам. Бывши в Москве, я не мог читать вам «Ревизора». Я не был в надлежащем расположении духа, а потому не мог даже суметь дать почувствовать другим, как он должен быть сыгран. Теперь, слава богу, могу. Погодите, может быть, мне удастся так устроить, что вам можно будет приехать летом ко мне. Мне ни в каком случае нельзя заглянуть в Россию раньше окончания работы[1012], которую нужно кончить. Может быть, вам также будет тогда сподручно взять с собою и какого-нибудь товарища, больше других толкового в деле. А до того времени вы все-таки не пропускайте свободного времени и вводите, хотя понемногу, второстепенных актеров в надлежащее существо ролей, в благородный, верный такт разговора – понимаете ли? – чтобы не слышался фальшивый звук. Пусть из них никто не оттеняет своей роли и не кладет на нее красок и колорита, но пусть услышит общечеловеческое ее выражение и удержит общечеловеческое благородство речи. Словом, изгнать вовсе карикатуру и ввести их в понятие, что нужно не представлять, а передавать. Передавать прежде мысли, позабывши странность и особенность человека. Краски положить нетрудно; дать цвет роли можно и потом; для этого довольно встретиться с первым чудаком и уметь передразнить его; но почувствовать существо дела, для которого призвано действующее лицо, трудно, и без вас никто сам по себе из них этого не почувствует. Итак, сделайте им близким ваше собственное ощущение, и вы сделаете этим истинно доблестный подвиг в честь искусства. А между тем напишите мне (если книга моя «Выбранные места из переписки» уже вышла и в ваших руках) ваше мнение о статье моей «О театре и одностороннем взгляде на театр», не скрывая ничего и не церемонясь ни в чем, равным образом как и обо всей книге вообще. Что ни есть в душе, все несите и выгружайте внаружу. Адресуйте в Неаполь, в poste restante.
Щепкин М. С. – Гоголю, 22 мая 1847
22 мая 1847 г. Москва [1013]
Милостивый государь
Николай Васильевич.
На первые ваши три письма[1014] я не отвечал, и, конечно, на это нет извинения, а потому я и не извиняюсь, ибо это будет ни к чему, а объясню некоторые причины, которые привели меня к такому результату. Первые два письма ваши получены во время моей болезни, и я не мог действовать по смыслу ваших писем в этом случае. Третие письмо остановляло уже все действие по части «Ревизора»; а главное – причиною ли тому болезненное состояние мое, головное ли отупение, только из всех трех писем, за исключением того, что касалось до сцены и до искусства драматического, что все вообще взято мною к сведению, остального, простите, я не понял совершенно или понял превратно, и потому я решился лучше молчать и ожидать объяснения изустного, если бы только случай был ко мне так добр. По выздоровлении, прочтя ваше окончание «Ревизора», я бесился на самого себя, на свой близорукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев «Ревизора», как живых людей. Я так видел много знакомого, так родного, я так свыкся с городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще – это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените? Оставьте мне их, как они есть, я их люблю, люблю их со всеми слабостями как и вообще всех людей. Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился, – видите ли, какое давнее знакомство. Вы из целого мира собрали несколько лиц в одно сборное место, в одну группу, с этими людьми в десять лет я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня. Нет, я их вам не отдам, не отдам, пока существую. После меня переделывайте хотя в козлов, а до тех пор я не уступлю вам даже Держиморды, потому что и он мне дорог. Вот главная причина моего молчания, и теперь, как все это высказалось, я, право, не знаю, может быть, все это вздор, вранье, но уже все это высказалось, так ему и быть!
В сторону прошедшее, за бока настоящее. Последнее письмо ваше совершенно оживило меня, и я в таком был поэтическом моменте, что я вот так <бы> сел и поехал, чтоб обнять вас, и Степан Петрович Шевырев уже начернил и письмо к директору об отпуске за границу. Да, я молод еще, хотя мне и без году шестьдесят, я еще восторгаюсь сильно, сильно увлекаюсь, даже до излишества; но, пообдумав все это, нашел все это почти не выполнимым, по крайней мере в настоящее время. Средства, придуманные вами, хороши, но не верны. Хотя на водах и много бывает русских, но все, что можно сделать при вашем пособии, – тысячу и даже, может быть, полторы, разумеется, во все вечера, и этих денег точно может быть достаточно на вояж в Париж и Лондон, хотя и это еще не совсем точно. Но доехать до Остенде[1015] – на это тоже требуются все деньги и деньги. И потому мне двинуться нельзя без верных пяти тысяч пятисот рублей. Вас это удивит, а я вам это объясню: у меня останется дома, кроме прислуги, 17 человек; им прожить нужно 1000 <рублей> в месяц. А как поездка моя никак не может быть меньше трех месяцев, следовательно, им надо три тысячи, а мне на вояж 2500 <р.>. Видите ли, эта сумма необходима – нет ее, и я должен лишить себя всегдашней моей мечты. Мне нужно видеть заграничные театры, очень нужно, незнание языка меня не пугает, главное я пойму, и оно необходимо мне для моих записок, в конце которых хочу изложить свой взгляд на драматическое искусство вообще и в чем состоит особенность каждого театра в Европе в настоящее время[1016]. Это будет окончательным делом моей практической деятельности! Итак, вы сами видите, как бы это было мне полезно для будущего. В настоящем же мне оно, кроме удовольствия, не принесет никакой пользы, ибо после сорокалетних занятий я уже не могу переделать себя, у меня недостанет сил, все сценические недостатки вросли в меня, вросли глубоко, их не вырвешь уже, не повредивши целого. Итак, практику оставим донашиваться так, как она есть. Конечно, много выиграла бы мысль, что для меня и для моей цели очень было бы полезно; но 5500 <р.> ставят этому препону. Я продал дом, расплатился с долгами, и у меня остаются за уплатою и с наемом годовой квартиры 1500 <р.> – вот все мое состояние! Да ежели бы его осталось и столько, сколько нужно для вояжа, то я и тогда не мог бы им пожертвовать. Это было бы поступлено мною бессовестно в отношении моего семейства. У меня было в жизни два владыки: сценическое искусство и семейство. Первому я отдал все, отдал добросовестно, безукоризненно; искусство на меня, собственно, не может жаловаться; я действовал неутомимо и по крайнему моему разумению, перед ним я прав. В отношении же последнего, положа руку на сердце, я не могу этого сказать. Стало быть, я должен стараться поправить то, что так долго было упускаемо. Итак, при всем моем желании я должен затаить мое желание и, может быть, на долгое время еще лишить себя ваших объятий, в которые, вы рады ли или не рады, я заочно повергаюсь и, от души вас обнимая, сам остаюсь весь ваш, все, что хотите, – и друг, и слуга, и проч. и проч.
Михайло Щепкин.
Я написал было сам это письмо, но так надряпал, что насилу сам прочел, и потому вынужден был попросить брата переписать.
1847 года. Маия 22 дня стар. ст. Москва.
Гоголь – Щепкину М. С., около 28 июня (10 июля) 1847
Около 28 июня (10 июля) 1847 г. Франкфурт [1017]
Письмо ваше, добрейший Михал Семенович, так убедительно и красноречиво, что если бы я и точно хотел отнять у вас городничего, Бобчинского и прочих героев, с которыми, вы говорите, сжились, как с родными по крови, то и тогда бы возвратил вам вновь их всех, может быть даже и с наддачей лишнего друга. Но дело в том, что вы, кажется, не так поняли последнее письмо мое[1018]. Прочитать «Ревизора» я именно хотел затем, чтобы Бобчинский сделался еще больше Бобчинским, Хлестаков Хлестаковым и – словом – всяк тем, чем ему следует быть. Переделку же я разумел только в отношении к пиесе, заключающей «Ревизора»[1019]. Понимаете ли это? В этой пиесе я так неловко управился, что зритель непременно должен вывести заключение, что я из «Ревизора» хочу сделать аллегорию. У меня не то в виду. «Ревизор» «Ревизором», а примененье к самому себе есть непременная вещь, которую должен сделать всяк зритель изо всего, даже и не «Ревизора», но которое приличней ему сделать <по> поводу «Ревизора». Вот что следовало было доказать по поводу слов: «разве у меня рожа крива?»[1020] Теперь осталось все при своем. И овцы целы, и волки сыты. Аллегорья аллегор<ией>, а «Ревизор» – «Ревизором». Странно, однако ж, что свиданье наше не удалось. Раз в жизни пришла мне охота прочесть как следует «Ревизора», чувствовал, что прочел бы действительно хорошо, – и не удалось. Видно, бог не велит мне заниматься театром. Одно замечанье насчет городничего примите к сведению. Начало первого акта несколько у вас холодно. Не позабудьте также: у городничего есть некоторое ироническое выражение в минуты самой досады, как, например, в словах: «Так уж, видно, нужно. До сих пор подбирались к другим городам; теперь пришла очередь и к нашему». Во втором акте, в разговоре с Хлестаковым, следует гораздо больше игры в лице. Тут есть совершенно различные выраженья сарказма. Впрочем, это ощутительней по последнему изданию, напечатанному в Собрании сочинений.
Очень рад, что вы занялись ревностно писанием ваших записок[1021]. Начать в ваши годы писать записки – это значит жить вновь. Вы непременно помолодеете и силами и духом, а чрез то приведете себя в возможность прожить лишний десяток лет. Обнимаю вас. Прощайте.
Н. Г.
Том второй
Гоголь и Аксаковы
Вступительная статья
Семья Аксаковых – замечательное, по-своему уникальное явление русской жизни 1830–1850-х годов. Заметный след в истории нашей культуры оставил глава семьи – писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859); его старший сын Константин Сергеевич (1817–1860) приобрел известность как поэт, критик и публицист, один из вождей раннего славянофильства; видным поэтом и общественным деятелем был и Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886). Однако большая аксаковская семья примечательна не только деятельностью этих наиболее ярких своих представителей. Современников привлекала царившая в ней теплота и сердечность, чистота ее нравственной атмосферы, широта культурных интересов, удивительно прочная связь старшего и молодого поколений.
В дом Аксаковых – один из центров московской жизни той эпохи – Гоголь был впервые введен М. П. Погодиным в июле 1832 года. Со временем дружеские отношения соединили писателя со многими членами этой семьи, но наиболее близки ему оказались Константин Сергеевич и в особенности Сергей Тимофеевич Аксаковы. К моменту знакомства с Гоголем С. Т. Аксаков уже занимал в литературно-театральном мире Москвы заметное положение. С 1827 года он служил цензором, а затем и председателем Московского цензурного комитета (уволен в феврале 1832 года). Дебютировав в печати еще в 1812 году, он впоследствии стал известен как театральный критик, поэт, славился как превосходный декламатор и авторитетный литературный судья. Однако временем расцвета Аксакова-художника стали последние полтора десятилетия его жизни, когда были созданы произведения, определившие вклад писателя в русскую литературу, – «Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» и др. Литературная ситуация 1840-х годов – ситуация, в значительной степени сформировавшаяся под влиянием гоголевского творчества, – позволила полностью раскрыться реалистическому дарованию Аксакова. Более того, внимание Гоголя, с большой заинтересованностью относившегося к литературной деятельности Сергея Тимофеевича, сыграло в пробуждении его писательского дара и роль непосредственного толчка. Успев познакомиться лишь с частью сочинений С. Т. Аксакова, Гоголь высоко ценил его как знатока русской природы и быта и, работая над вторым томом «Мертвых душ», в свою очередь, испытал воздействие Аксакова-прозаика.
Интерес Гоголя к литературным занятиям членов аксаковской семьи проявлялся также в его внимании к поэтическим опытам И. С. Аксакова, к художественным, критическим, научным сочинениям К. С. Аксакова, одаренность которого писатель высоко ценил.
В доме Аксаковых царил подлинный культ Гоголя-художника. Однако их личное сближение с писателем проходило непросто. Фамильная аксаковская пылкость не раз наталкивалась на сдержанность, а порой и скрытность Гоголя, поведение которого представлялось Аксаковым подчас странным и даже неискренним. С другой стороны, самого писателя нередко смущала свойственная Сергею Тимофеевичу – и в особенности Константину Сергеевичу – категоричность оценок, несдержанность в проявлениях и любви, и осуждения. Лишь в 1839 году – в очередной приезд Гоголя в Москву – установилась подлинная близость в его отношениях с Аксаковыми. «С этого собственно времени, – вспоминал Сергей Тимофеевич, – началась тесная дружба, вдруг развившаяся между нами» (Аксаков, с. 20).
В Аксаковых Гоголь нашел верных друзей, не раз оказывавших ему разнообразную практическую помощь, горячих сторонников и внимательных истолкователей своего творчества. Если яркий талант писателя был открыт для них «Вечерами на хуторе близ Диканьки», то появление сборника «Миргород» заставило аксаковскую семью взглянуть на Гоголя как на «великого художника с глубоким и важным значением» (Аксаков, с. 13). Еще более сильное впечатление произвели «Мертвые души», с главами которых автор знакомил Аксаковых, в числе других избранных слушателей, еще до опубликования поэмы. Сочинение Гоголя было воспринято в аксаковской семье как небывалое литературное явление, подлинный смысл которого, в силу его огромности, не может быть сразу постигнут читателями. Попыткой разъяснить сущность и значение произведения стала знаменитая брошюра К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (1842). Сознательно оставляя в стороне вопрос о конкретном содержании поэмы, ее сатирическом пафосе, автор брошюры выдвигал на передний план рассмотрение присущего Гоголю способа отображения действительности. По мысли Аксакова, «Мертвые души» противостоят в этом отношении всему современному искусству. В них как бы воскресает древнее эпическое созерцание – широкое, полное и беспристрастное изображение жизни. В связи с этим сам Гоголь – творец современного эпоса – в типологическом плане сближался в брошюре с Гомером. Для характеристики славянофильской позиции К. С. Аксакова важно, что сама возможность воскрешения в России эпического созерцания рассматривалась им как связанная со спецификой русской национальной жизни, исключительностью русского народа. Отношение же критика к творцу «Мертвых душ» ярко раскрывало высказанное в брошюре предположение, что в полностью осуществленной поэме окажется раскрыта «тайна» русской жизни, выявится ее сущность.
Появление «Нескольких слов…» вызвало шумный отклик современников. Наиболее принципиальным стало выступление В. Г. Белинского – в недавнем прошлом товарища Константина Сергеевича по кружку Станкевича, а в 1840-е годы его непримиримого идейного противника (об этой полемике см.: Манн, с. 176–195). Утверждая в специальной рецензии противоположный аксаковскому взгляд на поэму, Белинский делал акцент именно на ее конкретном содержании и критической направленности.
Сам Гоголь остался недоволен несвоевременностью, как ему казалось, выступления К. С. Аксакова и недостаточной зрелостью высказанных им идей, хотя многое в брошюре автору «Мертвых душ» было, несомненно, близко. Испытанное писателем раздражение не было продолжительным. Однако примерно к тому же времени относится начало и общего осложнения отношений между Гоголем и Аксаковыми. Человек наблюдательный и многое повидавший, Сергей Тимофеевич рано уловил, сначала в поведении, а затем и в письмах писателя, первые симптомы его будущего духовного кризиса. Аксакова смущали и расстраивали проявления мистических настроений и религиозной экзальтации Гоголя, новый, учительский тон, взятый им в переписке и вытесняющий прежнюю задушевность и теплоту. Чувство, переживаемое Сергеем Тимофеевичем, не сводилось к личной обиде. Это была прежде всего тревога за Гоголя-художника, впервые ясно высказанная Аксаковым-старшим уже в письме к писателю от 17 апреля 1844 года. Когда в августе 1846 года Сергею Тимофеевичу становится известно, что в Петербурге готовится издание нового произведения Гоголя, свидетельствующего о его окончательном повороте к «нравственно-наставительному» направлению, Аксаков предпринимает решительную попытку «спасти» писателя, предотвратив публикацию «Выбранных мест…», а также несущих на себе печать тех же идей и настроений «Предуведомления» к «Ревизору» и его «Развязки». «<…> неужели мы, друзья Гоголя, спокойно предадим его на поругание многочисленным врагам и недоброжелателям? – обращается Сергей Тимофеевич к издателю «Выбранных мест…» П. А. Плетневу. – <…> мое мнение состоит в следующем: книгу, вероятно вами уже напечатанную, если слухи об ней справедливы, не выпускать в свет, а «Предуведомление» к «Ревизору» и новой его развязки совсем не печатать; вам, мне и С. П. Шевыреву написать к Гоголю с полною откровенностью наше мнение» (Аксаков, с. 160). Действительно, «беспощадная правда» о новом гоголевском направлении высказывается С. Т. Аксаковым в письмах к писателю и их общим знакомым с «совершенной откровенностью» (Аксаков, с. 159–160). Не менее резко критикует «Выбранные места…» и Константин Сергеевич. Развернувшаяся в переписке Гоголя и Аксаковых полемика едва не приводит их к полному разрыву.
Переживаемый Гоголем кризис в аксаковской семье связывали с многолетним пребыванием писателя вне родины, с влиянием Запада, узостью круга соотечественников, среди которых автор «Выбранных мест…» находился за границей. Вот почему возвращение Гоголя весной 1848 года воспринято Аксаковыми с особой радостью. Однако отпечаток недавнего конфликта явственно ощущается и первое время после приезда писателя в Москву. Дольше всего держится раздражение Гоголя против К. С. Аксакова, которого писатель считал главным виновником возникшего разлада. Отношения с другими членами семьи налаживались быстрее. Особое значение имело при этом чтение Гоголем (летом 1849 года) начальных глав второго тома «Мертвых душ», вернувшее Аксаковым веру в него как в художника. В последние годы жизни писатель часто посещает своих друзей и в Москве, и в их подмосковном Абрамцеве. «По всему видно, что в Москве дом наш Гоголю существенно нужен, – писал отцу 3 сентября 1851 года И. С. Аксаков, – он хочет, чтоб переехала вся семья, с вашими записками, с Константиновыми речами и сочинениями, с малороссийскими песнями» (Аксаков, с. 214). С. Т. Аксаков и Гоголь работают в это время в тесном творческом контакте, намереваясь одновременно издать один – свои «Записки ружейного охотника», другой – второй том «Мертвых душ». Планам этим не суждено было осуществиться…
Сразу после смерти Гоголя Сергей Тимофеевич, ощущая свой долг перед памятью о писателе, начинает работать над книгой воспоминаний о нем. Оставшаяся незавершенной «История моего знакомства с Гоголем» (впервые полностью опубликована в 1890 году) является тем не менее ценнейшим биографическим источником. Она включает в себя и значительную часть обширной переписки писателя с семьей Аксаковых. Всего же в настоящее время опубликовано 71 письмо Гоголя к Аксаковым и 33 письма к Гоголю от С. Т., О. С., К. С. и И. С. Аксаковых. В данном случае большая часть писем Гоголя печатается по последнему научно подготовленному изданию: Аксаков. В сборник вошли 24 письма Гоголя и 18 писем С. Т. и К. С. Аксаковых.
Гоголь – Аксакову С. Т., 15 мая 1836
15 мая 1836 г. Петербург [1022]
15 мая, СПб.
Я получил приятное для меня письмо ваше. Участие ваше меня тронуло. Приятно думать, что среди многолюдной неблаговолящей толпы скрывается тесный кружок избранных, поверяющий творения наши верным внутренним чувством и вкусом; еще более приятно, когда глаза его обращаются на творца их с тою любовью, какая дышит в письме вашем. Я не знаю, как благодарить за готовность вашу принять на себя обузу и хлопоты по моей пиесе. Я поручил ее уже Щепкину и писал об этом письмо к Загоскину[1023]. Если же ему точно нет возможности ладить самому с дирекцией и если он не отдавал еще письма, то известите меня, – я в ту же минуту приготовлю новое письмо к Загоскину.
Сам я никаким образом не могу приехать к вам, потому что занят приготовлениями к моему отъезду, который будет если не 30 мая, то 6 июня непременно[1024]. Но по возвращении из чужих краев я постоянный житель столицы древней.
Еще раз принося вам чувствительнейшую мою благодарность, остаюсь навсегда
вашим покорнейшим слугою
Н. Гоголь.
Мая 15 1836.
Гоголь – Аксакову С. Т., 29 мая (10 июня) 1840
29 мая (10 июня) 1840 г. Варшава [1025]
Варшава, 10 июня.
Здравствуйте, мой добрый и близкий сердцу моему друг, Сергей Тимофеевич. Грешно бы было, если бы я не отозвался к вам с дороги[1026]. Но что я за вздор несу: грешно. Я бы не посмотрел на то, грешно или нет, прилично ли или неприлично, и, верно бы, не написал вам ни слова, особливо теперь, если бы здесь не действовало побуждение душевное. Обнимаю вас и целую несколько раз. Мне не кажется, что я с вами расстался. Я вас вижу возле себя ежеминутно и даже так, как будто бы вы только что сказали мне несколько слов и мне следует на них отвечать. У меня не существует разлуки, и вот почему я легче расстаюсь, чем другой. И никто из моих друзей по этой же причине не может умереть, потому что он вечно живет со мною. Мы доехали до Варшавы благополучно – вот покамест все, что вас может интересовать. Нигде, ни на одной станции, не было никакой задержки, словом, лучше доехать невозможно. Даже погода была хороша: у места дождь, у места солнце. Здесь я нашел кое-каких знакомых, через два дни мы выезжаем в Краков и оттуда, коли успеем, того же дни в Вену. Целую и обнимаю несколько раз Константина Сергеевича и снабжаю следующими довольно скучными поручениями[1027]: привезти с собою кое-какие для меня книжки, а именно миниатюрное издание «Онегина», «Горя от ума» и басней Дмитриева, и если только вышло компактное издание «Русских песней» Сахарова, то привезти и его[1028]. Еще: если вы достали и если вам случится достать для меня каких-нибудь докладных записок и дел, то привезти и их тоже. Михаил Семенович[1029], которого также при сей верной оказии целую и обнимаю, обещался, с своей стороны, достать. Хорошо бы присообщить и их также. Уведомите меня, когда едете в деревню. Корь, я полагаю, у вас уже совершенно окончилась. Перецелуйте за меня все милое семейство ваше, а Ольге Семеновне вместе с самою искреннейшею благодарностью передайте очень приятное известие, именно, что запасов, данных нам, стало не только на всю дорогу, но даже и на станционных смотрителей, и даже в Варшаве мы наделили прислуживавших нам плутов остатками пирогов, балыков, лепешек и прочего.