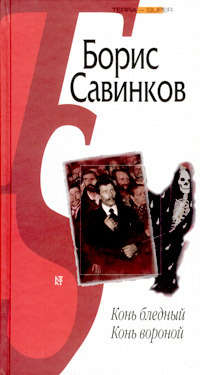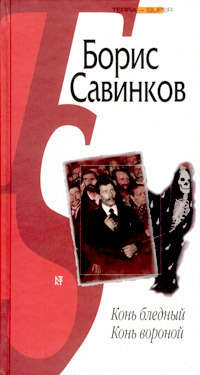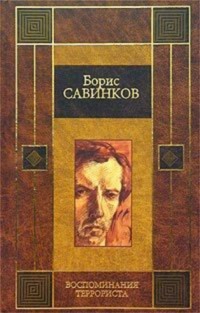полная версия
полная версияТо, чего не было (с приложениями)
– Работаете? – не глядя на Давида и обращаясь к людям, строившим баррикаду, спросил Володя.
– Работаем, Владимир Иванович… – отозвалось несколько голосов. Малый в тулупе поднял красное, обветренное на морозе лицо, подумал, почесал у себя за спиной и снова фыркнул в кулак. Володя подошел к распряженным саням и проворным, неожиданно легким для его громадного тела, движением шутя приподнял их на аршин от земли. Точно пробуя свою медвежью силу, он секунду их держал на весу и вдруг, размахнувшись, бросил в нагроможденную, уже политую водой и почти обледенелую баррикаду.
– Вот так, – широко улыбнулся он.
Болотов со все возраставшим волнением смотрел на него.
По обезлюдевшей, опустелой Москве, по занесенным ночною метелью улицам, по заколоченным окнам, по запертым наглухо железными болтами лабазам и лавкам, по отсутствию городовых и казачьих разъездов и по этой, строящейся на Чистых прудах, баррикаде он воочию увидел, что в Москве совершается что-то торжественно-важное, что-то такое, что не зависит ни от его, ни от чьей бы то ни было отдельной воли. Он увидел, что не власть партии всколыхнула многолюдную, богатую, деловую и мирную Москву, и петербургские заседания показались ему жалкими и смешными. Он пытался понять и не мог, какая же именно скрытая сила движет теми людьми, которые в Лефортове и в Кожевниках, на Миусах и на Арбате одновременно начали строить баррикады, одновременно решились умереть и убить. И теперь, стоя под лучами морозного солнца, среди не городского белого снега и веселых, здоровых, вооруженных людей, бойко делающих незнакомое и опасное дело, он испытывал счастливое и бодрое чувство. Казалось, что Москва поднялась, как один человек, всей своей веками накопленной русской силой, и сознание новой, тяжкой ответственности, ответственности не перед партией и Арсением Ивановичем, а перед потрясенной революцией Россией, волновало его. И еще казалось, что именно он, Андрей Болотов, – тот избранный вождь, который приведет восставший народ к победе. Он приветливо улыбнулся Ване:
– Как же это вы меня так скоро забыли?
– Безусловно, забыл… – тоже с улыбкой ответил Ваня. – А помните, как вы меня напугали?
– Напугал?
– А то нет?… Я ведь думал, не шпион ли какой?…
Болотов рассмеялся. «Так вот как он понял меня… Разве не все равно?… Разве важно?… Важно, что солнце, что снег, что баррикады и что он и я вместе на баррикаде… неужели вправду на баррикаде? – с изумлением спросил он себя. – Да, я в Москве… И в Москве восстание… В России восстание… И это превосходно… И все превосходно», – почти вслух прошептал он, точно желая проверить, что не спит и что все действительно превосходно. Ему вспомнился доктор Берг. «Ну и пусть он там решает свои дела…» – беззлобно подумал он.
– Вот что, ребята, – громко сказал Володя, – баррикада окончена… Чего без дела толкаться? Вы, Василий Григорьич, покараульте здесь, у крепости нашей, – повернулся он к господину в пенсне. Господин этот все время не спускал с него влюбленно-восторженных глаз. – А мы зайдем на минуту в Брызгаловский двор… А ты кто таков? – заметил он малого в полушубке.
– Я-с?
– Да, ты. Ты откуда взялся такой?
– Я-с?… Я брызгаловский дворник-с…
– Что ж ты тут делаешь? – нахмурил брови Володя.
– Так что дозвольте, ваше благородие, – замялся дворник и робко снял шапку, – уж очень занятно…
– Занятно?
– Так точно.
– Ну, если занятно, черт с тобой, оставайся и карауль.
Володя открыл калитку и быстро прошел во двор. Двор был запущенный, узкий, усаженный молодыми березами. Обремененные инеем пушились голые ветви. На дорожках и на прошлогодней траве великолепным ковром лежал серебряный снег, еще более целомудренно-чистый, чем на уличной мостовой. Когда все собрались. Володя сказал:
– Слышь, ребята, смелым Бог владеет, а пьяным черт качает… Баррикада – дело хорошее, только ведь стоянием Москвы не возьмешь… Нечего ждать, когда начальство пожалует, самим надо жаловать… Вы, Сережа, что думаете?
– Что думаю? Да нечего думать, – закуривая папиросу, ответил Сережа, – нужно делать террор…
– Как? Как? Что значит?… Как делать террор? – заторопился, перебивая его, Давид.
– Как? – нахмурился снова Володя. – Ну, это дело десятое, там видно будет, как его делать… Маузеры у всех? Ладно. А вы, Болотов, с нами?…
Хотя Болотов не знал, куда приглашает его Володя, и не мог бы сказать, что значит делать террор в восставшей Москве, он согласился без колебания. Он чувствовал, что потерял власть над собою, что он послушный слуга Володи, что чья-то высшая, непреложная воля, одинаково владеющая и Володей, и Давидом, и Сережей, и им, толкает его к чему-то страшному и решительному и что он не в силах не подчиниться ей. И сознание, что он не принадлежит себе, что он – игрушка в чьих-то руках, было приятно ему.
Темнело зимнее небо, и под ногами по-вечернему похрустывал снег, когда они вышли на Чистопрудный бульвар. Они шли по двое в ряд, и оттого, что их было много, и что у каждого было оружие, и что впереди шел Володя, и что кругом молчаливо раскинулась необозримая, темная, восставшая для смертного боя Москва, Болотов испытывал бодрящее чувство своей неистраченной силы и ожидающей его благословенной победы.
XIII
Был шестой час утра, и на дворе была еще ночь, когда Володя остановился у подъезда небольшого деревянного дома в Грузинах. «Здесь», – шепотом сказал он и, нашарив пуговку электрического звонка, позвонил протяжным и долгим звонком. Невыспавшиеся, угрюмые, неотличимые в ночной темноте дружинники несмело жались друг к другу. Было морозно и звездно. Прямо над головой на иссиня-черном декабрьском небе сверкала Медведица. «Зачем я здесь, с ними?» – с тревогой подумал Болотов. Того светлого чувства, которое владело им накануне, он не испытывал более. Даже казалось, что Володя делает ненужное, злое, быть может, вредное дело. Но не было силы уйти. За стеклянною дверью, в сенях, вспыхнул огонь, и толстый, босой, в длиннополом, грязном халате швейцар загремел ключами.
– Кто тут? – недовольным голосом проворчал он, осторожно приоткрывая двери и запахивая халат. Сквозь освещенные стекла Болотов ясно увидел близорукие, ищущие во тьме глаза, опухшее заспанное лицо и взлохмаченную спросонок голову. Сзади на тротуаре кто-то, должно быть Ваня, негромко сказал:
– Кого Бог полюбит, тому гостя пошлет.
– Оглох?… Отворяй!.. – крикнул Володя, и сейчас же один из дружинников, Константин, рыжий, веснушчатый малый, лет девятнадцати, налег плечом на дверную раму. Дверь подалась, и зазвенели осколки стекол. Швейцар поднял руки. В ту же минуту, не давая ему времени вскрикнуть, Константин навалился всей тяжестью на него и изо всех сил сдавил ему горло. Болотов видел, как напружилось и посинело белое, искаженное испугом, лицо швейцара.
– Связать! – отрывисто приказал Володя. – Константин и Роман Алексеевич! Останетесь здесь. Поваренков и Лейзер – на улице. Никого не впускать! Поняли? Никого! Кто бы ни позвонил – связать!
Согнувшись громадным и гибким телом и стараясь не стучать сапогами, он по-юношески легко взбежал по лестнице вверх. Во втором этаже, направо, была прибита дощечка: Евгений Павлович Слезкин. Володя обернулся к дружине.
– Вот что, – полушепотом сказал он, – ты, Ваня, пройдешь на кухню и станешь у черного хода. Да, смотри, ворона, убью!..
Не ожидая ответа, он позвонил. Стало тихо. В тишине было слышно дыхание многих людей. Теперь Болотов уже знал, знал наверное, что они делают что-то страшное и жестокое. Опять захотелось уйти, – захотелось не видеть того, что будет. Но та же непонятная сила, которой он радовался вчера, удерживала его. И сознание, что он не принадлежит себе, что он бессловесный и послушный солдат, теперь не только не было приятно ему, но вызвало смущение и страх. Казалось, что не Давид, не Володя, не Ваня решили ночью, как воры, напасть на этот запертый дом, что за них решила дружина, партия, Москва, вся Россия. И еще казалось, что остановиться они не вправе, что их бесславное отступление будет тяжким позором и непрощаемою изменой. И он понял, что не уйдет и беспрекословно, не рассуждая, исполнит все, что ни прикажет ему Володя.
Давид, еще на улице дрожавший как в лихорадке, искоса посмотрел на него и вздохнул:
– Что-то не отворяют?… А?…
Болотов нервно повел плечами. Внизу, в швейцарской, затихли шаги, внезапно погас огонь. Володя позвонил еще раз. В прихожей резко задребезжал заглушенный звонок.
– Кого надо? – прошамкал из-за дверей старушечий голос.
– От генерала! – тотчас ответил Володя.
– От генерала?
– Да… Да… Очень важное… Отворите скорее…
Что-то заворочалось за обитой желтой клеенкой дверью. Заскрипел под ключом замок. На пороге стояла старуха, сморщенная, простоволосая, в ночной белой кофте, должно быть, нянька. Она доверчиво подняла голову, но, увидев толпу вооруженных людей, закрестилась, затопталась на месте и, раскрыв старый, беззубый рот, приседая и кивая тощей косичкой, начала задом отступать от Володи.
Внося с собой запах мороза и неоттаявшие сосульки на бороде и бровях, Володя вошел в квартиру. Поколебавшись секунду, он несильно толкнул закрытую дверь. Дверь вела в темную, душную, очевидно, жилую комнату. Поискав пальцами по стене, он зажег электричество. Болотов, повинуясь все той же необъяснимой силе, вошел вслед за ним.
Посреди комнаты стоял тяжелый письменный стол. В правом углу, под небогатою образницей, на кожаном широком диване спал человек. Человеку этому на вид было лет сорок. У него были черные с проседью волосы и такого же цвета закрученные кверху усы. Вероятно, он услышал во сне шаги или яркий свет потревожил его. Он лениво полуоткрыл глаза и, как бы не веря тому, что увидел, думая, что все еще снится сон, опять опустил ресницы. Но сейчас же, точно кто-то сзади ударил его по голове, быстрым движением откинул ватное одеяло и потянулся рукой под подушку. Володя схватил его за плечо:
– Попрошу встать.
Человек, стараясь освободить руку, молча, потемневшими, испуганно-злыми глазами, смотрел на Володю. Он не замечал, что Василий Григорьевич целится в него из дрожащего маузера и что у самого уха, в затылок ему, направлен тоже дрожащий револьвер Давида.
– Господин Слезкин? – спросил Володя.
– Да, Слезкин, – чувствуя, что не может освободиться, прерывающимся, густым баритоном произнес человек.
– Полковник отдельного корпуса жандармов Евгений Павлович Слезкин?
– Ну да… Евгений Павлович Слезкин… Пустите руку…
– Попрошу встать.
Полковник Слезкин опустил на ковер одну голую волосатую ногу. Подумав, он опустил и другую, и, сидя так на диване, свесив босые ноги, в одной короткой рубашке, он надтреснутым голосом, но все еще громко, сказал:
– Вам собственно что угодно?
– Узнаете своевременно.
Слезкин стал одеваться. Болотову казалось, что все, что он видит, происходит не наяву и не с ним, до такой степени было странно смотреть на эти чужие голые ноги, на эту обнаженную, красную, с торчащим кадыком шею, на то, как здесь, среди них, незнакомых и враждебных людей, одевается пожилой, вероятно, женатый и семейный человек. «Точь-в-точь как жандармы…» – мелькнуло у Болотова. Лакированных высоких сапог Слезкин без помощи денщика натянуть не умел, и пока он возился с ними, тащил за ушки и, гремя шпорами, стучал пяткою о пол, все неловко молчали. Надев наконец синие с кантом рейтузы и сапоги, он снова сел на диван и, подняв по-детски высоко плечи и беспомощно разводя руками, вздохнул:
– Что же это такое?…
– Где ваш револьвер? – строго спросил Володя.
– Револьвер?… – Слезкин провел рукою по лбу. – Под подушкой револьвер…
– Сядьте сюда, за стол.
Слезкин не двигался.
– Прошу сесть за стол.
– За стол?… За стол?… Нет… Нет… Я не хочу за стол… – провожая глазами Володю, едва слышно пролепетал он и дернул шеей.
– Господин Слезкин.
– Нет… Нет… Ради Бога, нет… Я не сяду…
Болотов видел, как Давид приставил к стриженому седому виску револьвер. Он видел, как тряслись у Давида пальцы и как у Слезкина, у носа и около скул, проступили багровые пятна и задрожала нижняя челюсть. Давид, не опуская револьвера, заговорил быстро, заикаясь и глотая слова:
– Что значит?… Если вам велят, то есть приказывают, то вы обязаны садиться, куда сказано, то есть куда велят…
Володя поморщился:
– Господин Слезкин!
Слезкин встал и, с усилием волоча ноги, опустился в низкое плетеное кресло. Сев за привычный письменный стол, по привычке спиною к двери, увидев на привычных местах привычно знакомые, всегда одни и те же предметы: сафьянный черный портфель, чернильницу, пресс-папье в виде подковы, он внезапно притих и, стараясь быть твердым, сказал:
– Что же вам, наконец, нужно?…
– Узнаете своевременно… – Володя отвел револьвер Давида. – Вот что, господин полковник, Евгений Павлович Слезкин, даю вам пять минут сроку…
Володя не кончил. Слезкин с минуту остановившимися глазами в упор смотрел на него, и вдруг, не отрывая глаз от лица Володи, медленно приподнялся с кресла, и также медленно, прямой, высокий и белый как скатерть, начал пятиться задом к дверям. Пятясь, он постепенно подымал руки, точно прося пощады, и, подняв их до уровня плеч, закрывая лицо, широко расставил толстые пальцы. И тут Болотов услыхал то, чего долго потом не мог забыть, что долгое время спустя заставляло его в холодном поту, ночью, вскакивать с койки. Он услышал прерывистый стонущий заячий лай. Было невозможно поверить, что эти визгливые, непохожие на человеческий голос звуки выходят из горла вот этого крепкого, пожилого, в синих рейтузах и белой рубашке, человека. Слезкин, не опуская поднятых пальцев, и все так же не отрывая глаз от Володи, и все так же пятясь назад, и все так же визгливо лая, шаг за шагом отступал в угол, как будто в углу было его спасение. Болотов отвернулся.
Но внезапно, заглушая этот заячий лай, из прихожей поднялся и, наполняя низкие комнаты, повис в воздухе другой, еще более неожиданный звук: пронзительный женский щемящий вопль. И, расталкивая дружинников и кидаясь грудью на них, в комнату ворвалась женщина, с нездоровым цветом лица, полная, в папильотках, видимо, прямо с постели. Не умолкая ни на минуту, не понимая, что с ней и что она делает, зная только, что ее муж умирает, она бросилась на колени и, ловя ноги то Володи, то Сережи, то Болотова, хватаясь за них и целуя их сапоги, снова целуя и захлебываясь от плача, повторяла одно, лишенное смысла, слово:
– Спасите!.. Спасите!.. Спасите!..
Болотов видел, как Василий Григорьевич уткнулся носом в занавески окна и как Давид, отшвырнув свой револьвер и закрыв руками лицо, выбежал вон. Володя, бледный от гнева, решительно подошел к женщине. Он поднял ее на руки, как ребенка, и угрюмо забормотал:
– Успокойтесь, сударыня… Успокойтесь… Женщина продолжала биться. Ее полное мягкое тело в длинной ночной сорочке сотрясалось от плача. Вырываясь из твердых объятий Володи, она, забыв все другие слова, выкрикивала одно и то же, подсказанное отчаянием, слово:
– Спасите!.. Спасите!.. Спасите!.. Спасите!.. Болотов почувствовал, что не может больше молчать и что у него сейчас брызнут слезы. Боясь этих слез, он повернулся к Володе:
– Пощадите его…
Володя ему не ответил. Крепко держа женщину на руках и зажимая ей рот платком, он быстро, уверенным шагом, вышел в прихожую.
– Прозевали! – сквозь зубы сказал он. – Вороны!
Слезкин стоял теперь в левом углу, у двери. Он стоял неподвижно, плотно прижавшись спиною к стене и не говоря ни слова. Сухими, блестящими, неестественно расширенными глазами он по-прежнему беспокойно следил за Володей, не пропуская ни одного его шага, ни одного движения его больших рук. Володя, вернувшись и заперев двери на ключ, со вниманием, пристально взглянул на него и отчетливо и громко сказал:
– Ну-с, господин Слезкин, по постановлению московской боевой дружины вы приговорены к смертной казни… через повешение, – понизив голос, прибавил он. – Эй, кто там?… Веревку!..
Никто не пошевелился. Володя нахмурился. Болотов, чувствуя мелкую, неудержимую дрожь в ногах, пониже колен, опять подошел к нему:
– Владимир Иванович…
– Чего?
– Владимир Иванович…
– Ну, чего?
– Пощадите, Владимир Иванович…
– Как? Жандармского полковника Слезкина? Пощадить?… Эх вы… Так зачем было петрушку валять?… Зачем?… Тьфу!..
– Пощадите, Владимир Иванович…
Слезкин не шелохнулся, точно не за него просил Болотов. Он все так же, не отрываясь, в упор смотрел на Володю. Лицо Володи перекосилось. На правой щеке под густою черною бородой, около сжатого рта, запрыгали судороги. И, не глядя на Болотова, он хриплым голосом крикнул:
– Убирайтесь все к черту! Все!..
Болотов, не помня себя, вышел из комнаты. В прихожей не было никого. Только у выходных запертых на цепочку дверей с бесстрастным лицом и с браунингом в руке дежурил незнакомый Болотову рабочий. Когда Болотов поймал его равнодушный, почти скучающий взгляд, ему стало страшно. Он понял, что Слезкин неизбежно будет убит, что нету той власти, которая бы могла спасти его жизнь. «С нами не поминдальничают, за ушко да на солнышко… – неожиданно вспомнил он. – В самом деле, незачем было петрушку валять… Ведь этот Слезкин – мерзавец, ведь он перевешал десятки, ведь у него нет совести, как у зверя…» – ища оправдания, подумал он, но думать дальше не мог. Кто-то, всхлипывая, рыдал в углу. Закрывшись жандармской шинелью, весь мокрый от слез, в прихожей за вешалкой притаился Давид. Незнакомый дружинник взглянул на него и презрительно скривил губы.
В комнате Слезкина, кроме Володи, остался один Сережа. Когда Болотов вышел, он тронул Володю за рукав и тихо сказал:
– Бог с ним, Владимир Иванович…
Володя задумался. Опустив голову и расставив широко ноги, он думал секунду. Сережа закрыл глаза. Вдруг Володя дернул вверх головою.
– Трусы! Все трусы!.. – пробормотал он, и, избегая глаз Слезкина, незаметным проворным движением выхватил из кармана маленький тускло-синий револьвер, и, сжав зубы, почти не целясь, выстрелил в угол. Комната густо наполнилась клубами едкого дыма. На ковре, закинув высоко голову и опираясь затылком о стену, лежал смертельно раненный Слезкин.
XIV
Когда Давид вышел на улицу, уже рассвело. Утро было ненастное. Хмурые, низкие облака холодной мглой нависли над городом, над белыми крышами и голыми фабричными трубами. Снег не хрустел под ногами, а вился мутными хлопьями и налипал на подошвы, сырой и скользкий. Опустив голову и поеживаясь в своем осеннем пальто, Давид торопливо, без цели, шагал по бульварам по направлению к Замоскворечью. Раушская набережная была пустынна, точно вымерла вся Москва. На другом берегу реки, за Каменным мостом, в белых летучих хлопьях тонули зубчатые Кремлевские стены. После бессонной ночи в жандармской передней, после плача, криков и суеты, после властных приказаний Володи казались новыми и неожиданно странными и эта вялая тишина, и этот мокрый, забивающийся за иззябшую шею, снег, и это нависшее небо, и туманный купол Христа Спасителя. Но страннее и неожиданнее всего было равнодушие прохожих: никто не знал, да, может быть, и не хотел знать, что случилось что-то ужасное, что убит человек, Евгений Павлович Слезкин, и убит именно им, Давидом.
На Балчуге, возле единственного незапертого лабаза, заполняя всю улицу, растянулись громоздкие, покрытые заскорузлой рогожей возы с мукой. Сытые кони, тяжеловозы, опустив заиндевелые шеи и подрагивая боками, понуро стояли в снегу. У коней также понуро стояли извозчики, тоже заиндевелые и замерзшие, ожидая очереди, чтобы проехать во двор. Один из возов застрял у ворот, и лабазные молодцы в холщовых передниках подталкивали его и ругались. На истоптанном грязном пороге стоял рыжебородый хозяин и, глядя на них, тоже ругался. Давид остановился перед лабазом. Он с тупым любопытством смотрел на однообразную вереницу нагруженных мукою возов, на залепленных снегом людей, на рыжебородого ругающегося купца, точно действительно было важно узнать, как протиснутся застрявшие сани во двор. И когда наконец, поскрипывая полозьями, сани скрылись в воротах, и за ними медленно тронулся весь тяжелый обоз, и приказчики, притоптывая ногами, разошлись по лабазу, Давид долго еще стоял неподвижно и все так же тупо смотрел на опустевшую улицу и железные болты лавок. Он очнулся от холода. Лицо его было мокро, и нестерпимо мерзли красные, закоченевшие руки. Засунув их глубоко в карманы и подняв воротник пальто, он быстро перешел Каменный мост. На Волхонке он споткнулся о занесенный снегом бочонок – о совсем готовую, заледенелую баррикаду, оставленную дружиной, – и чуть не упал. Потерев ушибленное колено, он свернул в переулок, но за углом была выстроена другая, невидимая с улицы, баррикада, и на ней трепалось красное знамя. Из-за вала кто-то окликнул его.
Давид мельком взглянул на знамя и, махнув рукою, повернулся на каблуках и побрел назад к Боровицким воротам. Его сейчас же догнал какой-то молодой с задорными глазами дружинник, подпоясанный извозчичьим гарусным кушаком. Он, запыхавшись, подбежал к Давиду и, дыша ему в щеку, заглянул прямо в лицо. Давид приостановился и, покраснев, с глазами полными слез, забормотал, заикаясь:
– Что значит?… Сегодня ночью… начальника охраны… убили…
Чувствуя, что сейчас зарыдает, и отчаянным усилием воли сдерживая себя, он визгливым фальцетом крикнул:
– А убил его я!..
Потом, приподняв для чего-то свою студенческую фуражку, он, не оглядываясь, бегом побежал к Кремлю. Молодой рабочий с недоумением пожал плечами, сплюнул и лениво поплелся на баррикаду.
Снег, не утихая ни на минуту, белыми мутными хлопьями засыпал улицы, тротуары, деревья, церкви, дома, баррикады дружинников и Давида. В Александровском саду он глубоким ковром замел все дорожки. Давид присел на скамейку и с тем же тупым любопытством, с каким смотрел на обоз, стал рассматривать летающие снежинки. Они неслышно падали ему на плечи, на руки, на колени, и, когда их скоплялась большая груда, он осторожно, одним пальцем, стряхивал их на землю. Он не мог бы сказать, сколько времени он так просидел. Его знобило. Он не думал ни о чем – ни о Слезкине, ни о восстании, ни о Володе. Он видел снежные хлопья, каменную стену Кремля и в лихорадочном забытьи считал замедленные удары на Тайницкой башне. Но вдруг с тою же беспощадной отчетливостью, как и вчера, в ушах неожиданно зазвенел знакомый пронзительный заячий крик, тот крик, которому он был не в силах поверить, хотя и слышал его. «А-а-а-а-а…» – замычал он и схватился за голову. «А-а-а-а-а…» – повторил он, сжимая до боли виски. Его фуражка свалилась в снег, но он не поднял ее. Он ясно видел перед собой потемневшие, немигающие, остановившиеся глаза. Он встал и, не опуская рук, в расстегнутом мокром пальто, без шапки, побрел на Арбатскую площадь. На площади, у Арбата, валялись обломки раскиданной баррикады и потрескивал на углу веселым огнем костер. У костра грелись люди в темных шинелях. Их было много. Давид, опять почувствовав холод, не понимая, где он и что это за люди, пошел прямо на них, к огню.
– Кто идет? – услышал он хриплый окрик. Он не понял его и только ускорил шаги, но что-то острое, твердое загородило ему дорогу. Перед ним стоял невзрачный солдат в башлыке, навернутом на уши, и в неуклюжих засыпанных снегом сапогах. Продолжая держать винтовку наперевес, он низко нагнулся к Давиду и тотчас, вытягиваясь, как на параде, сказал заученным голосом:
– Так что жида поймал, ваше благородие. – Несколько человек в таких же обмотанных кругом головы башлыках и в серых шинелях окружили Давида. У всех были в руках винтовки, и все, недружелюбно и откровенно, разглядывали его. Подошел молодой, с бледным и хмурым лицом и с родинкой на щеке, офицер и тоже недружелюбно, с ног до головы, осмотрел Давида. Солдат весело повторил:
– Так что жид, ваше благородие.
– Обыскать! – сказал офицер и брезгливо поморщился.
И сейчас же Давид почувствовал, как по его телу, по спине, по груди и под мышками зашарили чужие и грубые неловкие руки. От их прикосновения стало как будто еще холоднее. Давид съежился и глубоко спрятал лицо в воротник.
– Револьвер, ваше благородие.
Давид не сознавал, что именно с ним происходит. В ушах, мешая думать и понимать, все еще звенел заячий лай. Почему-то Давид был твердо уверен, что обыскивают его по недоразумению, что недоразумение скоро рассеется и что его, конечно, отпустят. Он не мог поверить, что его, свободного человека, который только что свободно ходил по Москве и свободно мог выехать в Петербург или за границу, его, Давида, здесь, на Арбате, силою задержали какие-то неизвестные люди и что эти люди вправе сделать с ним все что угодно. Это было до такой степени нелепо и непонятно, что он не почувствовал ни беспокойства, ни страха и равнодушно следил за шарившими по его телу руками. Один из солдат, черноусый ефрейтор, толкнул его легонько прикладом: