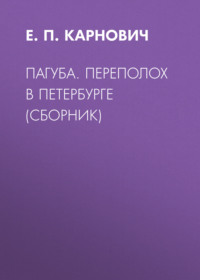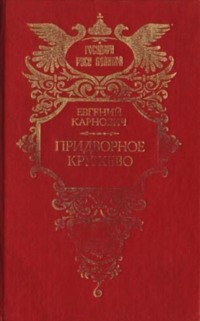полная версия
полная версияМальтийские рыцари в России
Пространствовав по Италии среди музыкальных похождений около пяти лет, Скавронский на двадцать седьмом году возвратился в Петербург. До императрицы Екатерины доходили порой вести об его артистических и композиторских чудачествах за границей, но она не видела в них ничего предосудительного и даже отчасти была довольна тем, что Скавронский во время своего пребывания в чуждых краях не тратил денег, как это делали другие богатые русские баре того времени, на разврат, на картежную игру и на разные грубые проделки, дававшие не очень выгодное понятие иностранцам о нравственном и умственном развитии наших соотечественников. Императрица полагала, что шутливых намеков и легкой насмешки будет вполне достаточно для того, чтобы отучить Скавронского от обуявшей его музыкально-артистической мании.
Когда в 1781 году Скавронский возвратился в Петербург, то богач меломан стал считаться там самым завидным женихом. Маменьки, бабушки и тетушки, наперерыв одна перед другой, старались выдать за него своих внучек, дочерей и племянниц, но он, влюбленный по-прежнему в музыку, не думал вовсе ни о какой невесте. Замыслил, однако, посватать его могущественный в ту пору князь Потемкин, и к услугам князя явился расторопный Дмитрий Александрович, искавший случая подслужиться временщику. Потемкин в это время выдавал старшую свою племянницу по сестре Александру Васильевну Энгельгардт за графа Ксаверия Броницкого, а другой, младшей его племяннице подыскал жениха Гурьев. Он ловко взялся за дело и вскоре устроил свадьбу этой молодой девушки со Скавронским, бывшим под его неотразимым влиянием. Скавронский вдруг изменил музыке и страстно влюбился в красавицу невесту. Он был до такой степени доволен этим браком, что за устройство его подарил своему свату «в знак памяти и дружбы» три тысячи душ крестьян.
Женившись на Екатерине Васильевне, Скавронский вдруг пристрастился к дипломатии. Служебная дорога была перед ним открыта, и он, пожалованный действительным камергером, был в 1785 году назначен русским посланником в Неаполь, куда и отправился на житье со своей молоденькою женою.
V
Несмотря на затруднения разного рода, какие в конце прошедшего столетия представлялись при путешествиях по Европе вообще и по Италии – этой классической стране разбойников и бандитов – в особенности, туристы всех наций, а в числе их и русские, очень охотно посещали Италию. Следуя старинной поговорке «veder Napoli e poi morire», т. е. «взглянуть на Неаполь, а потом и умереть», так как ничего лучшего уже не увидишь, – они заезжали в этот греческо-итальянский город, чтобы полюбоваться его чудной приморской панорамой и грозным Везувием. Открытые около той поры развалины подземных городов Геркуланума и Помпеи, засыпанных лавою, влекли к Неаполю путешественников, напускавших на себя вид ученых и знатоков древности. Много уже перебывало в Неаполе русских бар-путешественников, но едва ли кто из них наделал там столько шуму и говору, как ожидавшийся туда русский посланник граф Скавронский. Молва об его богатстве, знатности и щедрости предшествовала ему. Издатели газет, вовсе не знавшие графа, выхваляли его необыкновенный ум, замечательную ученость и разнородные таланты, а местные поэты, не видавшие еще его супруги, подготовляли в честь ее нежные сонеты, чувствительные мадригалы и торжественные оды, сравнивая ее по красоте и стройности стана с первенствовавшими богинями языческого мира.
Скавронский приехал в Неаполь, как обыкновенно езжали в ту пору за границу русские богачи, старавшиеся прежде всего поразить иностранцев роскошью и причудами. За дорожной его каретой следовал длинный поезд с прислугою, составленною как из крепостных русских, так и из вольнонаемных разных наций. За несколько дней до приезда в Неаполь русского посланника пришел туда отправленный из Петербурга обоз с различными принадлежностями домашней обстановки, которых нельзя было достать за границей. Самый лучший отель в городе был заранее нанят для посланника за огромные деньги, бессрочно, до того времени, пока он по приезде в Неаполь не выберет для постоянного своего житья какой-нибудь роскошный палаццо, отделает его еще лучше, чем он был прежде, и приспособит ко всем потребностям и удобствам. Все главные помещения отеля были уже приготовлены в ожидании прибытия знатного и богатого иностранца, и лишь в некоторые небольшие нумера допускались постояльцы, да и то с условием очистить их немедленно по приезде русского графа, если он того потребует.
В числе лиц, проживавших в отеле на таких неприятных и неудобных условиях, была г-жа Лебрен, пользовавшаяся уже в Европе громкой известностью как знаменитая портретистка. Она расположилась в отеле в скромном помещении, со своими мольбертами, красками, палитрами и кистями и не совсем спокойно ожидала той минуты, когда ей придется оставить удобное для нее во всех отношениях помещение и сделать это единственно в угоду русскому синьору. Когда Скавронский приехал в нанятый для него отель, то ему или действительно показалось, или только из пустой прихоти он заявил, что приготовленного помещения недостаточно для его многочисленной свиты, и потому потребовал, чтобы из отеля выехали все постояльцы. Осведомившись же, что в числе их находится г-жа Лебрен, которую он знал еще по слуху, он отправил к ней мажордома графини с покорнейшею просьбою, чтобы г-жа Лебрен не только не выезжала из отеля, но сделала бы его супруге честь личным знакомством. При этом благовоспитанный Скавронский поручил мажордому извиниться перед г-жой Лебрен за графиню, которая, будучи нездорова и устав чрезвычайно от дороги, лишена была удовольствия сделать первый визит г-же Лебрен. После такого внимания и любезного приглашения, повторенного вслед за тем и самим графом, умная и образованная художница сделалась постоянной гостьей Скавронских и не могла нахвалиться их радушием и самым утонченным вниманием.
В записках своих, изданных под заглавием «Souvenirs», г-жа Лебрен оставила несколько заметок о супружеской чете, с которой она вскоре после первого визита свела самое близкое знакомство. На свидетельство г-жи Лебрен, отличавшейся таким художественным вкусом и внимательно присматривавшейся к каждой черте и к каждому оттенку лица, положиться, конечно, можно, а между тем, по словам г-жи Лебрен, графиня Скавронская была «прекрасна, как ангел», и одарена была от природы «всеми прелестями чарующей красоты». Другая дама, баронесса Оберкирх, в своих «Записках» заметила: «Скавронская идеально хороша; ни одна женщина не может быть прекраснее ее», а граф Сегюр пишет, что головка Скавронской могла служить образцом для головки амура.
Говоря далее о Скавронской, г-жа Лебрен пишет, что она была чрезвычайно добра и снисходительна, но характер ее и образ ее жизни отличались замечательными странностями. Она никогда и никуда не выезжала без самой крайней необходимости, и ее не выманивали из палаццо даже очаровательные прогулки на берегу моря при томном сиянии месяца. Она отличалась какою-то загадочною ленью, всякое движение, несмотря на ее молодость и легкость походки, было для нее обременительно. Самым большим для нее наслаждением было лежать на мягком канапе, закрывшись, несмотря ни на какую жару, богатой собольей шубкою. Когда около нее не было никого посторонних, в ногах у нее садилась привезенная в Неаполь из России старушка-няня и принималась рассказывать ей сказки, разумеется повторяя одно и то же по сотне раз. Молодая ленивица чувствовала отвращение к нарядам, и г-жа Лебрен, так много обращавшая на них внимание в качестве портретистки, не без удивления замечала, что Скавронская никогда не носила корсета. Между тем свекровь ее беспрестанно снабжала ее выписываемыми из Парижа дорогими и изящными изделиями, выходившими из мастерской мадемуазель Вертен, знаменитой модистки, одевавшей первую тогдашнюю щеголиху в Европе, королеву Марию Антуанетту. Несколько больших комнат в отеле, занятом Скавронскими, было загромождено тюками и ящиками с нарядами, привезенными из Парижа и отличавшимися тою утонченностью вкуса, какая тогда господствовала во Франции по части дамских мод. Но молоденькая женщина не только не выражала свойственной ее летам торопливости посмотреть поскорее на привезенные ей посылки, но даже вовсе не любопытствовала взглянуть на них, и потому заделанные тюки и ящики с нарядами оставались невскрытыми. Когда же камер-фрау предлагала ей выбрать и надеть какую-нибудь щегольскую обновку, которая должна была так идти ей, то Скавронская как будто с удивлением спрашивала: «Зачем? Для кого?» Письма своей свекрови, внушавшей ей, что жене русского посланника при одном из самых блестящих дворов в Европе, и притом такой молодой и хорошенькой женщине, необходимо одеваться роскошно, по последней моде, она прочитывала с грустною усмешкою и вовсе не думала следовать советам и внушениям, даваемым ей со стороны этой великосветской барыни.
По всему было заметно, что красавица Скавронская как будто тяготилась окружавшею ее пышностью и своим видным положением в обществе. Постоянно задумчивая, она, казалось, предпочла бы жить нелюдимкой и даже затворницей. Ни на кого, ни на что она не обращала внимания. На нежности и ласки своего мужа, влюбленного в нее до безумия, она отвечала холодно и неохотно. Скавронский же по характеру и по образу жизни представлял совершенную противоположность жене. Он любил общество и был там приятным и веселым собеседником, там он искал для себя развлечения от своей семейной жизни, и так как он занимал в Неаполе высокий дипломатический пост, то и должен был жить открыто и роскошно, сообразно своему званию. Вследствие этого Скавронский часто давал в своем палаццо и роскошные обеды, и великолепные балы, но эти последние чрезвычайно редко украшались присутствием прелестной хозяйки, которая не являлась на них под предлогом внезапной болезни. Для лиц, не знавших близко Скавронских, жизнь графини казалась странной, и отчуждение ее от света объяснили страшною ревностью ее мужа, который, следуя варварскому обычаю «московитов», старался скрывать красавицу жену от посторонних взглядов. На деле, однако, было вовсе не то. Скавронский не только не препятствовал ей являться в свете, но, напротив, видя ее постоянно печальною и задумчивою, желал, чтобы она полюбила светские развлечения и блистала в обществе своею чарующею красотою.
Кроме великолепных нарядов, напрасно присылаемых Скавронской, у нее было множество драгоценных уборов. Однажды она вздумала показать их г-же Лебрен, которая, хотя и много уже насмотрелась на подобные вещи, но тем не менее была изумлена при виде сокровищ, принадлежавших добровольной отшельнице. Скавронская между прочим показала ей бриллианты необыкновенной величины и самой чистой воды, сказав, что они были подарком дяди ее, князя Потемкина. Никто, однако, не видал на ней этих драгоценных камней; она не выставляла их напоказ даже при происходивших при королевском дворе торжествах и празднествах, на которые являлась неохотно только вследствие просьбы и убеждений мужа.
Рождение графини Екатерины Васильевны Скавронской в небогатой и многочисленной семье смоленских помещиков немецкого происхождения, сперва ополячившихся, а потом обрусевших, вовсе не обещало ей блестящей будущности, и только необыкновенное возвышение ее родного дяди, Григория Александровича Потемкина, изменило предстоявшую ей скромную участь. Сделавшись могущественным вельможей и самым доверенным другом императрицы Потемкин не забыл своей родни и оказывал особенное расположение дочерям своей старшей сестры Марфы Александровны, бывшей замужем за подполковником Василием Александровичем Энгельгардтом. Дочери ее, простенькие барышни, были в 1776 году привезены прямо ко двору Екатерины. В это время Кате шел одиннадцатый год. Робко и недоверчиво смотрела деревенская дикарка на новую пышную обстановку и не скоро свыклась с тем положением, в каком так неожиданно очутилась. 10 июня 1781 года она была пожалована во фрейлины, а в ноябре того же года вышла замуж за Скавронского.
Брак ее был отпразднован торжественно. На свадьбу были приглашены только те дамы, которые были приглашены в Эрмитаж, то есть составляли самый близкий к императрице кружок. После свадьбы был блестящий бал в кавалергардской зале и ужин в присутствии императрицы. Жених приехал под венец в карете, стоившей 10 000 рублей, украшенной снаружи стразами. На другой день после свадьбы начались пиры в доме Потемкина, нынешнем Аничковском дворце. Много толков в петербургском обществе возбудил этот брак, и все они сводились к тому общему заключению, что молоденькая фрейлина вышла замуж поневоле, единственно в угоду своему дяде.
Года через три после своего замужества Скавронская вошла однажды в уборную Потемкина, жившего в Зимнем дворце под комнатами, занимаемыми государынею. В уборной на столе она увидела портрет императрицы, осыпанный бриллиантами. Портрет этот носил постоянно Потемкин в петлице своего кафтана. Взяв в руки портрет и стоя перед зеркалом, Скавронская машинально пришпилила его к корсажу своего платья.
– Иди, Катя, наверх к императрице и поблагодари ее! – вдруг крикнул лежавший на диване Потемкин.
Она с изумлением посмотрела на дядю и торопливо принялась отшпиливать портрет государыни.
– Нет, нет! Не снимай его, а так с ним и ступай! – громче прежнего крикнул Потемкин и, лениво приподнявшись с дивана, взял лежавшие перед ним карандаш и лоскуток бумаги, на котором написал несколько слов. – Ступай с этой записочкой к государыне и поблагодари ее за то, что она пожаловала тебя в статс-дамы.
Приказание это было высказано так настойчиво, что растерявшаяся Катя должна была повиноваться ему. С недовольным лицом, с нахмуренными бровями прочла государыня записку Потемкина, поданную ей смущенною Скавронскою. Несмотря на свое искусство притворяться и казаться любезною, Екатерина не могла на этот раз скрыть своего сильного неудовольствия. Преодолев, однако, его, она написала ответ Потемкину, уведомляя князя, что исполнила его желание, сделав его двадцатилетнюю племянницу статс-дамою.
В ту пору случаи пожалования этого высокого звания вообще были чрезвычайно редки, а для такой молоденькой женщины звание статс-дамы оказывалось и небывалым еще отличием. Все заговорили об этом, завистливо посматривая на новую счастливицу. Начались толки и пересуды, и Скавронская, не терпевшая ни интриг, ни сплетен, была очень рада оставить двор императрицы, когда вскоре после этого муж ее получил место посланника в Неаполь.
VI
Горделиво смотрелся в тихие голубые воды залива стоявший на якоре в виду Неаполя военный корвет «Pellegrino». Поднятый на его корме красный, наподобие церковной хоругви, с белым крестом флаг показывал, что корвет этот принадлежал к составу военно-морских сил державного Мальтийского ордена. Окончив упорную борьбу с турками, длившуюся с лишком три столетия, мальтийские рыцари продолжали содержать в Средиземном море довольно значительный флот с целью уничтожения магометан-пиратов, гнездившихся в Алжире и Тунисе и разбойничавших как в этом море, так и в водах греческого архипелага. Ордену в ту пору не было уже надобности вести правильную морскую войну с турками, после истребления их флота при Чесме графом Алексеем Орловым, тем более что на северном прибрежье Черного моря стала возникать грозная для Турции сила со стороны России. Храня, однако, свои древние рыцарские обеты – бороться с врагами св. креста и защищать слабых, иоанниты снаряжали свои военные суда для крейсерства, чтобы освобождать из неволи христиан, захваченных в плен пиратами, охранять от нападений со стороны этих последних христианских торговцев и вообще держать в страхе суда, появлявшиеся в водах Средиземного моря с изображением полумесяца на флаге.
Давно уже была пора корвету «Pellegrino» поставить паруса и отправиться в плавание, но проходил день за днем, а командир корвета не думал вовсе готовиться к уходу с неаполитанского рейда. Экипаж корвета не мог надивиться такой странной медлительности своего начальника, который был известен как деятельный и отважный моряк, предпочитавший всегда зыбь моря неподвижности суши. Все замечали, что молодой командир вдруг изменился, что он стал теперь совсем не таким, каким был прежде. Бывало, он нетерпеливо ожидал той минуты, когда подует попутный ветер и быстро, на всех парусах, помчит в море его ходкое судно. Теперь уже несколько раз поднимался самый благоприятный ветер, а между тем командир корвета, скрестив на груди руки, стоял неподвижно на палубе и задумчиво смотрел в беспредельную даль моря, как будто не решаясь расстаться с приманившим его берегом. Напрасно шкипер заговаривал с ним об удобствах плавания при наступившей погоде и даже почтительно докладывал о необходимости прекратить поскорее такую продолжительную стоянку, напоминая, что корвет «Pellegrino» послан по повелению великого магистра не для того, чтобы стоять где-нибудь праздно на якоре, а для того, чтобы безостановочно крейсировать в открытом море. С рассеянным видом слушал командир и доклады, и рассуждения своего подчиненного, да и вообще не обращал никакого внимания на говор моряков-сослуживцев, роптавших на бездеятельность и на бесполезную трату времени. Не отвечая ни полслова на делаемые ему представления, он приказывал подавать себе шлюпку и съезжал на берег. Нашлись, однако, любопытные из числа лиц, составлявших экипаж корвета. Они постарались высмотреть, куда отправляется их начальник по приезде на берег. Оказалось, что каждый раз он не ходил никуда, кроме палаццо, в котором жил русский посланник, граф Скавронский. Заговорили об этом на корвете, но так как около той поры Россия старалась приобрести для своих военных кораблей постоянную стоянку на Средиземном море и так как петербургский кабинет вел перед этим переговоры с мадридским кабинетом об уступке с означенной целью России острова Минорки, то частые посещения русского посланника командиром мальтийского корвета объясняли или каким-либо участием в этих переговорах, или особым данным от великого магистра поручением относительно этого дела, и находили вероятным, что русские намерены выговорить право стоянки для своих военных судов в одной из гаваней острова Мальты.
Действительно, молодой командир корвета Джулио Литта во время своих ежедневных побывок в Неаполе не показывался нигде, кроме как у Скавронских, но он ходил туда не для каких-нибудь дипломатических переговоров, но совсем по другому делу. Красавица Скавронская влекла его к себе и заставляла моряка-рыцаря забывать любимую им стихию. Познакомившись со Скавронским как с официальным лицом и представленный его жене, Литта был очарован ее «ангельскою красотою». Под этим впечатлением он забыл о своих священных рыцарских обетах: о службе державному ордену, о крейсерстве для преследования пиратов; забыл и о корвете, бывшем под его начальством. Он не заботился и не думал теперь ни о чем, найдя в доме Скавронского такую пристань, которую ему никогда и ни за что не хотелось бы покинуть.
Граф Джулио Райнеро Литта, которому в это время было лет двадцать восемь, мог считаться красавцем в полном значении этого слова. Он был очень высокого роста, стройность стана соединялась у него с величавостью осанки. Деятельность моряка, приучившая его к трудам и опасностям, закалила его цветущее здоровье. Тонкие и правильные черты итальянского типа носили отпечаток мужества, большие черные то блестящие, то задумчивые глаза и приятная улыбка придавали этому молодому человеку чрезвычайную привлекательность, и, по всей вероятности, самый разборчивый художник не отказался бы взять его за образец красоты. Военный наряд мальтийского рыцаря, или кавалера, еще более оттенял его замечательную наружность. Литта носил красный кафтан французского покроя с белым мальтийским крестом на груди, повешенным на широкой черной ленте. Белое батистовое жабо с тонкими кружевами и легкая пудра на голове резко выделяли прекрасные черты его свежего загорелого лица. Литта чрезвычайно полюбился Скавронскому и после непродолжительного знакомства сделался постоянным гостем в его доме, а вместе с тем и самым приятным собеседником его жены, которая увидела в молодом командире такую привлекательную личность, какую ей не приводилось встречать прежде.
Беседы моряка с посланницею не отличались, впрочем, ни живостью, ни игривостью. Скавронская не имела той бойкости и находчивости, которые придавали особый оттенок разговору модных дам прошлого столетия, кокетничавших с мужчинами. Литта хотя и был человек умный и тонкий, но вел себя слишком сдержанно, не пускаясь в любезности. Молодой моряк рассказывал графине о далеких странствиях, и она любила подолгу слушать эти рассказы, и ни один самый чуткий и зоркий наблюдатель не уловил бы в их беседе намека на их сердечное, взаимное друг к другу влечение. Скавронская, освоившись мало-помалу с обычным посетителем, не стеснялась уже его присутствием в своей привычке – лежать на канапе, прикрывшись собольею шубкою. Часто, залюбовавшись ею, молча сидел около нее моряк-рыцарь, не спуская с нее глаз, а она ласково, без кокетства посматривала на него. Такая близость знакомства между Скавронской и Литтой согласовалась вполне с нравами тогдашнего высшего итальянского общества, среди которого каждая дама необходимо должна была иметь ухаживавшего за ней мужчину: так называвшегося «cicisbeo» или «cavaliere servente».
День за днем откладывал командир корвета свой уход из Неаполя, посылая на Мальту донесения, которые по их запутанности и неопределенности ставили тамошние власти в тупик относительно причин промедления корвета «Pellegrino» на неаполитанском рейде. Крепко не хотелось Литте отплыть оттуда. Наконец он увидел, что оставаться там более не было никакой возможности. Поэтому, отдав экипажу приказание приготовиться назавтра в плавание, он отправился провести последний вечер к обворожившей его красавице. Литта застал ее покоившеюся, по обыкновению, на канапе.
– Я пришел проститься с вами, синьора, – сказал он опечаленным голосом. – Завтра рано утром мой корвет уходит в море…
– Куда же вы направляетесь? – встрепенувшись, спросила Скавронская.
– К берегу Африки, я и то уже слишком долго зажился в Неаполе… Мне давно следовало бы уйти отсюда, – грустно проговорил моряк.
– И напрасно не сделали этого, если вам было нужно. Вы проскучали здесь, а между тем вами будут недовольны на Мальте, – наставительно сказала Скавронская, стараясь придать своему голосу выражение равнодушия.
Литта тяжело вздохнул.
– Отчего вы так вздыхаете? – скорее с добродушной насмешкой, нежели с участием, спросила молодая женщина. – Если вам было так хорошо здесь, то вы можете опять прийти сюда и даже поселиться здесь навсегда.
Литта не отвечал ничего и задумчиво смотрел на свою собеседницу.
– Скажите мне, отчего вы не женитесь?.. – торопливо спросила она Литту.
– Как рыцарь Мальтийского ордена, я дал обет безбрачия, – не без некоторой торжественности проговорил Литта.
– Значит, вы – монах?.. – весело рассмеявшись, перебила Скавронская.
– Почти что монах… – прошептал Литта.
– Отчего же вам вздумалось так стеснять свою жизнь, но и ваши сердечные чувства? Разве вы не можете полюбить какую-нибудь девушку и пожелать, чтобы она была вашей женой? В силах ли вы поручиться, что с вами никогда не случится этого?..
– Прежде чем я дал мой рыцарский обет, – заговорил Литта, – я долго думал и размышлял и решился вступить в орден только после того, когда убедился, что женщины…
– Что женщины?.. – с живостью возразила Скавронская, приподнимаясь на локоть, и при этом движении шубка, скользнув с ее плеча, упала на ковер. Литта бросился поднимать шубку, чтобы накинуть ее на синьору.
В это время в длинной анфиладе комнат послышались рулады, напеваемые слабым, прерывающимся голосом.
– Мой муж вернулся, – проговорила Скавронская, – он под впечатлением концерта напевает что-то, и, Боже мой, как он страшно фальшивит!.. К нему, должно быть, возвращается его прежняя страсть. Вероятно, он забыл кроткие внушения государыни, что музыка – не дело дипломата.
Скавронский, продолжая напевать, вошел к жене и, дружески поздоровавшись с Литтою, нежно поцеловал свою Катю. Она пристально взглянула на него, и каким-то жалким существом представился ей ее жалкий, хилый муж с бледным, исхудалым лицом; он показался ей мертвецом, ожидающим погребения. Она быстро вскинула свои глаза на гостя – перед ней стоял красавец в полном цвете молодых сил.
Литта сообщил Скавронскому, что завтра уходит с рейда в море, и посланник в самых любезных выражениях изъявил сожаление, что лишается такого приятного для него гостя, и затем с жаром дилетанта принялся рассказывать о концерте, происходившем в присутствии королевской фамилии, о расположении духа, в каком, по-видимому, находился король, о туалете королевы и о встрече с множеством своих знакомых. Рассеянно слушала Скавронская рассказы мужа, который, впрочем, обращался с ними преимущественно к гостю. Хотя и Литту не занимала нисколько светская болтовня хозяина, но он делал вид, что слушает графа с особым вниманием. Наконец Скавронский утомился и призамолк, не находя поддержки своему разговору.