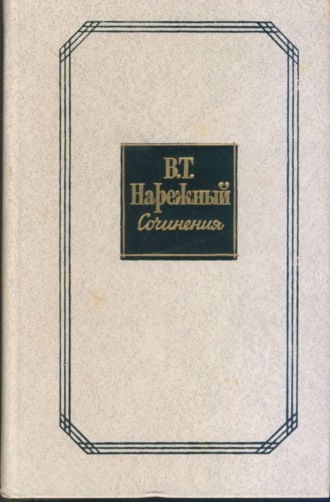 полная версия
полная версияРоссийский Жилблаз, Или Похождения Князя Гаврилы Симоновича Чистякова
Я полюбопытствовал; поглядел в щель забора и увидел деву Анисью, сидящую на дерне в объятиях хромоногого Антипыча.
«Вот лекарство от любви, – думал я, крайне радуясь своему открытию. – О почтенный и добрый Трис-мегалос! заслуживал ли ты такое вероломство?» Без души бросился я в покой, взял, не говоря ни слова, за руки Трис-мегалоса и Горланиуса; дал знак, чтоб они хранили глубокое молчание, и повел в сад; указал на щель, а сам поотдаль от них также взглянул в дырочку. Прелестная чета сидела по-прежнему обнявшись. Антипыч говорил: «Правда, дорого заплатил бы, чтоб этот старый дурачина Трис-мегалос скорее кончил свою комедию. Ты не поверишь, душа моя, какое доставляю я удовольствие своим приятелям, читая в шинках рассуждения влюбленного лешего о душе во лбу и о душе в затылке! Думаю, комедия не хуже будет!»
С сими словами они обнялись; он потрепал ее по шее и приложил туда толстые губы свои: как вдруг возопили Горланиус и Трис-мегалос. Первый: «О бесстыдная дочь, недостойная Соломона, матери своей!» Второй: «Горе мне, многогрешному и проклятому!»
Горланиус бросился бежать домой, чтоб, поймавши хромоногого беса, доказать пред ним преимущество прямоногого человека; а бедный метафизик упал без чувств. Я поднял вопль и с помощью кухарки отнес и положил его в постелю. Он скоро опомнился, но чад из ученой головы его не выходил. Он беспрестанно твердил: «Горе мне!»
Во всю ночь не отходил я от его постели. Он ежеминутно просыпался и кричал: «О любовь, любовь! о предрагоценные мои сочинения о душе в челе и затылке и многодрагоценнейшая комедия! для кого писал я вас? Чтоб хромой урод читал в шинках и на торжищах! Горе мне, многогрешному!»
Глава XI
Родственная любовь
(Продолжение повести Никандровой)
Чрез несколько дней телесная болезнь его миновалась, но душевная нимало. Он был беспрестанно пасмурен, с дикостию обращал по сторонам взоры; а когда они встречались с моими, то он краснел от стыда. Скука и уныние водворились в нашем мирном обиталище. Г-н Горланиус не только не заглядывал к нам, но не писал ни одной строчки. Конечно, ему совестно было, что, быв таким славным ученым, он был такой дурной отец. Анисья никуда не выходила; ибо, как мы узнали стороною, Горланиус в первом жару справедливого гнева прибил ее до полусмерти восемьдесят девятым томом энциклопедии, изданной Парижскою академиею в александрийский лист. Никогда энциклопедия не приносила большей пользы, как теперь, заставив беспутное творение по крайней мере пробыть в доме с месяц. Анисья не могла шевельнуть свободно ни одним членом, и все волосы были выщипаны. Конечно, Горланиус искал в затылке ее души, согласно с последним трактатом Трис-мегалоса. Мы также с своей стороны не хотели ни о чем осведомляться.
Пришед в одно утро в его кабинет, я немало удивился. В лежанке пылал огонь, а Трис-мегалос сидел на стуле и спокойно кидал в печь по тетради исписанной бумаги. Кучи лежали на полу подле него. Увидя меня, он улыбнулся и сказал:
– Сын мой! Пора оставить дурачества, какого бы рода они ни были. Вот я делаю тебе пример, и ты увидишь, что я отказываюсь от всякой любви, кроме одной. Всякая любовь, к чему б то ни было, каков бы ни был предмет ее, если она выходит из меры, есть непростительное дурачество. Однако человек с тем родится на свет, чтоб быть рабом и игрушкою многоразличных глупостей. Любил я страстно метафизику и беспрестанно заблуждался; любил до безумия славянский язык и был для всех смешон; любил Анисью и стал сам себе противен! Я любил пунш, и он один не сделал мне видимого зла; а потому я намерен теперь обратить к нему одному всю нежность мою и горячность; что ж касается до прочего, пропади всё! Анисью душевно презираю; славянским языком не скажу ни слова; о метафизике и думать не хочу; трактаты мои о душе во лбу и затылке, равно как и метафизическая комедия, давно обращены в пепел; а теперь смотри: вот рассуждение о душах животных, где доказано, что они иногда умнее и человеческих, да только смертны; вот другое – о занятии верховного существа до создания мира; а это, в трех томах, о будущих занятиях его по разрушении оного.
Говоря таким образом, он одну тетрадь за другою клал в печь и холоднокровно мешал кочергою. В полчаса обратились в пепел труды сорока лет.
– Это прекрасно, – сказал я, – что вы так строго поступили с неблагодарною Анисьей, которая за любовь вашу платила злом; в рассуждении же метафизики и славянского языка скажу вам мое мнение: всему есть мера и время. Но что касается до пунша, то, мне кажется, не для чего и к нему умножать доброжелательство. Не будет ли довольно с него и настоящего?
– Нет, сын мой; ты знаешь, какая пустота теперь в сердце моем: выкинув вдруг три любви, надобно чем-нибудь ее наполнить; а иначе потеряется равновесие и могут произойти дурные следствия.
Никак я не мог оспорить его. Каждый день я проповедовал, он каждый день пил и спустя два месяца не походил на себя. Слабость и судорожные припадки нападали на него; он жаловался коликою, головною болью и удушьем; я все сие приписывал излишеству любви его к пуншу, а он – к недостатку. Он шатался, как тень. Приметно было, что прежние любови его свирепствовали в сердце; и он выгнал их только на языке. Подходя к шкапу, он невольным образом брал книгу потолще, раскрывал, произносил с улыбкою: «Глава III, de miraculis».[58] Вдруг, вспомня о своем обещании, он повергал книгу на пол, топтал ногами и скрипел зубами, произнося с бешенством: «Неблагодарная метафизика!» Так точно поступал он, заикнувшись что-нибудь сказать по-славянски или нечаянно произнеся имя Анисьи.
Сидя однажды поутру со мною, он говорил:
– Любезный друг! Вижу, что жизнь моя увядает и я быстрыми шагами спешу ко гробу. Надеюсь, ты дождешься терпеливо сей радостной для меня минуты и не оставишь несчастного, а в награду останется тебе этот домик со всем к нему принадлежащим. Библиотеку мою, которая стоит мне довольно дорого и состоит большею частию из умозрительных бредней, оставляю тебе с тем, чтоб продать первому безумцу, который купить пожелает, и то в течение одного года. А если в сие время не сыщется в городе такого сумасшедшего, то сожги; иначе великие несчастия, подобно моим, могут случиться и с тобою. Будучи в пеленах, лишился я отца; на десятом году и матери;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Хотя у меня нет ближних родственников, а одни дальние, которых не видал и в глаза, однако и они могут помешать тебе в спокойном владении моим имением; а потому теперь же хочу устроить все законным порядком и написать духовную. Я послал уже за приказным служителем и священником.
Меж тем как я уверял, что желаю ему долголетия Мафусаилова,[59] а он божился, что каждый проведенный день считает праведным наказанием неба за безумные его любови, услышали мы у дверей великий шум.
– Конечно, священник с приказным, – сказал Трис-мегалос. – Но о чем так шуметь им?
Вскоре и подлинно вошел приказный, но не один: ибо ввалилась с ним целая толпа мужчин, женщин и детей разного возраста и пола.
– Прошу садиться, господин приказный, – сказал Трис-мегалос;– а вы кто, честные господа, и зачем пожаловали?
– Ах! и подлинно так, – вскричали все в одни голос. – Ах, бедненький!
Трис-мегалос глядел на меня, я на него, и оба не догадывались, что бы это значило? Но скоро все объяснилось. Пожилая женщина, чепурно одетая, подошла к нему с жеманным видом и сказала:
– Как, любезный дядюшка, вы уже не узнаете и ближних своих родственников? Я Олимпиада – племянница ваша в седьмом колене; это доктор, муж мой, а это две дочери; а дома осталось два мальчика и девочка.
Трис-мегалос вскричал со гневом:
– Хоть бы там остались целые сотни тысяч мальчиков и девочек, я не хочу и знать их, равно как и вас самих, ибо и вы меня не знали!
Тут подошел доктор, посмотрел на него в лорнет, взял за руку, пощупал пульс и, пожав плечами, сказал:
– Жаль, крайне жаль, но нечего делать!
– Что за дьявольщина, – говорил Трис-мегалос с удивлением. – Никак это стая бешеных! Чего жаль тебе, государь мой?
– Посмотрите, почтенные господа, посмотрите только в глаза ему: какие мутные, красные и как дико обращаются! – Все пристально смотрели и ахали.
Доктор хотел продолжать:
– По всему приметно, что душа его…
– Что? Не в затылок ли переселилась? – вскричал Трис-мегалос. – Если ты так думал, так врешь, господин доктор. Это написал я в угодность одной беспутной девке, которой того хотелось; а сам как прежде, так и теперь уверен, что душа наша во лбу, между глазами. Ну, что теперь скажешь, господин доктор?
Он посмотрел на всех с величеством, торжествуя победу над доктором; но увидел, что все только пожимали плечами и кивали головами.
Тут выступил другой, с виду похожий на ремесленника, и сказал:
– Ну, милостивые государи, видно, делать больше нечего: простимся с ним, если он кого узнает; а там…
– Как мне узнать вас, – сказал вспыльчиво Трис-мегалос, – когда отроду никого не видывал? Убирайтесь поскорее к черту; у меня есть дело!
– Как? – подхватил ремесленник, – и меня не узнаете? Ах, боже, мой! Да вить я Зудилкин, брат ваш в осьмом колене; а это Малания, жена моя, – а это – сыновья, которые изрядно уже помогают в слесарном ремесле моем!
С сим словом подошел он к Трис-мегалосу, обнял его с жалостным видом и сказал:
– Прости, дражайший братец!
Тут со всех сторон поднялся вопль: «Прости, дядюшка, прости, сватушка, прости, дедушка!» Все толпились обнимать его: кто хватал за колени, кто за руки, кто за платье. Трис-мегалос не на шутку взбесился. Задыхаясь от гнева, он прежде отпихивался; а там начал изрядно стучать по головам руками и лягаться пинками. Но как и то не помогло, то он заревел: «Помогите, помогите, они меня задушат!»
Тут высокий человек, стоявший до сих пор в стороне и по виду похожий на полицейского, с важным видом выступил и сказал:
– Оставьте, господа; перестаньте! Уж этим не поможете! – Потом подошел к Трис-мегалосу и сказал учтиво:– Государь мой! извольте следовать за мною добровольно, буде в силах.
Трис-мегалос. Куда?
Полицейский. С тех пор как приключилось вам несчастие, жалостливые ваши родственники упросили правительство дать вам убежище в известном доме, где будут иметь над вами лучший надзор, нежели здесь. Да и подлинно: в таком состоянии, как теперь, вы можете все перепортить; а сему быть неприлично, ибо имение ваше принадлежит близким родственникам, которые за их о вас попечение стоят того, чтоб все досталось им в целости.
Трис-мегалос. Да откройте мне ради бога, о каком несчастии все вы жалеете и в какой известный дом хотите вести?
Полицейский. Если вы в состоянии понимать…
Трис-мегалос. Как? Я не в состоянии понимать?
Полицейский. То я вам все открою. Несчастие, вас постигшее, о коем так печалятся родственники, состоит в том, что вы невозвратно лишились рассудка; а известный дом есть дом для сумасшедших. Довольны ли?
Трис-мегалос задрожал. Каждый мускул его двигался; то багровая краска гнева, то бледность ужаса появлялась попеременно на щеках его. Полицейский взял его за руку и довел уже до дверей, как Трис-мегалос уперся и вскричал: «Нет, бездельники, я докажу вам!» Но жалостливые родственники обступили его, связали руки и ноги и в таком наряде вынесли на улицу, взвалили на телегу, и полицейский поехал. Трис-мегалос ужасно кричал. Прохожие спрашивали: «Что это значит?» – «Везу сумасшедшего», – отвечал полицейский; и они, крестясь, говорили: «Упаси боже всякого православного!» Я провожал его со слезами до несчастного дома. Воротясь назад, я нашел жилище наше полно родственников. Кто таскал столы, кто посуду, кто ломал шкапы, кто звенел рюмками и стаканами. Словом: целый содом.
Доктор, подошед ко мне с важностию, сказал:
– Изволь, сударик, убираться вон! Дом сей принадлежит мне!
– Сей же час, – отвечал я, идучи в свою горницу укладываться.
Глава XII
Разные происшествия
(Конец повести Никандровой)
Став на колени у моего баульчика, вытаскивал я из него белье в сумку и, наконец, взяв в руку золотые деньги, хотел пересчитать их и положить в карман, говоря с довольным видом: «Благодарю провидение, пославшее меня в дом честного человека, теперь я надеюсь долго прожить без нужды, пока не найду приличного места».
– О мошенник, о бездельник! – раздался над головою моею голос; невидимая рука исторгла из рук моих деньги, и все мгновенно скрылось в воздухе.
– Чудо! – вскричал я, закрыв лицо руками. Дрожь проникла по всему телу. Успокоясь несколько, встаю, оборачиваюсь и вижу доктора, который сказал весьма сердито:
– Как это, дружок, не стыдно тебе красть в таком печальном случае? Разве это не все то же, что с пожару или из церкви? Благодари бога, что он послал меня сюда в то время, когда ты только что хотел деньги прятать! О! если б тут был слесарь Зудилкин, ты б с ним так легко не разделался.
– Когда так, – сказал я свободно, ибо совесть моя была чиста, – то, господин доктор, возвратите мои деньги; я нажил, я нажил их не в этом доме, а у одного честного человека, которого дочь…
– Хотелось тебе выдать замуж за легковерного и помешанного старика Трис-мегалоса? О дружок! за честное ремесло взялся ты, и будучи еще так молод! Сейчас убирайся, иначе я позову полицейского и докажу, что ты – причиною сумасшествия Трис-мегалосова: что ты вор и грабитель, а там знаешь что? Тебя свяжут, закуют в железа и посадят в тюрьму. Ну, выбирай одно из двух, и теперь же; я человек решительный!
Страх меня обнял. Два слова: «железа» и «тюрьма» – много придали силы поражающему его красноречию. Я хотел подражать ему в решительности, поднял на плеча сумку и пошел быстрыми шагами вон.
Вышед из дому и прошед несколько улиц, я остановился и сказал: «Время рассуждать, что мне делать. Нечего и думать возвращаться в дом Ермила Федуловича: там Федора Тихоновна и Дарья Ермиловна хуже цепей и тюрьмы. В дом купца – стыдно. Это, может быть, покажется ему сомнительно; он начнет с доктором тяжбу: меня, как основание оной, и подлинно куда-нибудь засадят, а когда уже о переломленной ноге индейки судили два года с половиною и ничего не рассудили, то моя тяжба продлится по малой мере двадцать пять. Если же купец, сжалясь надо мной, и не станет тягаться, то все же велит выйти из дому и станет давать мне деньги. Не принять их – он обидится; принять – кажется, бесстыдно. Зачем, не заслужив, пользоваться добротою сердца щедрого человека. Лучше оставить этот город и искать других. Везде есть люди, следовательно везде есть надобность в познаниях. Стану учить музыке, языкам и живописи».
Порассудив таким образом, пустился я в дорогу. Был в селах, городах и городках.
Я каждый из них оставлял, или возбудив в ком-нибудь на себя неудовольствие, или сам будучи недоволен. Однако это имело свою пользу. Путешествие более всего научает человека узнавать людей, а потому просвещаться. На другой год страннической моей жизни прибился в этот город, познакомился с почетным священником Иваном и жил очень доволен в его доме, доставая столько денег, что не был ему в тягость. Тут осенью нашел меня господин Простаков и взял к себе. Мне и в ум не приходило, что Елизавета дочь его. Прочие обстоятельства вы знаете, почтенный Гаврило Симонович.
Конча повесть свою, Никандр сидел задумавшись.
Князь Гаврило Симонович сказал:
– Не печалься, Никандр. Господин Простаков – человек добрый и тебя любит; он имеет в рассуждении тебя хорошие намерения; именно: пристроить к месту и в том самом городе, где ты учился и производил рыцарства, ибо у него там есть много знакомых именитых людей и какой-то богатый купец, с которым уже он ведет об этом переписку.
– Ах! Как опять далеко! – сказал Никандр.
– Тем лучше, – отвечал князь, вставая, ибо вошел отец Иван и объявил весело, что того дня ввечеру будут у него гости. День был субботний, накануне заговенья. Никандр принял весть сию с неприятностию; князь Гаврило Симонович с равнодушием, а оба начали готовиться к встрече гостей.
Оставя их в сем занятии, переселимся в городскую квартиру г-на Простакова с семейством. Муж ходил по комнате большими шагами, держа в одной руке шляпу, а в другой трость. Вид его показывал неудовольствие. Жена с таким же расположением сидела у столика, разбирая ленты и кружева, Катерина в одном углу, Елизавета в другом, обе зевая.
Жена. Уж как ты заупрямишься, так тебя ничем не переможешь!
Муж. Когда ты в этом уверена, то зачем и мучить себя по пустякам, стараясь перемочь!
Жена. Но зачем же, кажется, и не послушаться? Отец Иван звал так учтиво, так усильно…
Муж. Я, кажется, и не грубо отказался быть у него.
Жена. Посуди, там будет судья, исправник, много дворян и все с фамилиями. Что же мы одни будем сидеть дома?
Муж. Зачем сидеть? Я дал слово городничему, туда и пойдем.
Жена. Госпожи городничихи я терпеть не могу. Она так спесива, так надменна!..
Муж. Погляди на себя и спроси ее: что она о тебе скажет?
Жена. Я непременно буду у отца Ивана!
Муж(уходя). Ты непременно будешь у городничего! Жена! Ты меня давно знаешь! Делай то, что я приказываю, и раскаиваться не будешь! Иначе… Я жду тебя у городничего.
На сей раз сделаю я небольшое отступление, поместив повесть, приличную к сему обстоятельству, читанную мною давно в какой-то старинной немецкой книжке.
Один муж любил горячо жену свою; во всем делал ей возможные увеселения; ласки его были нежны. Чего ж бы еще жене недоставало, чтоб быть благополучною в полной мере? А вот чего: муж был чрезвычайно ревнив; особенно он ревновал к своему соседу, настоящему прельстителю. Когда сосед глядел в окно своего дома, муж тотчас велел закрывать ставни своего. Если слышал голос его на улице, то мгновенно уводил жену в самую дальнюю комнату. Все в доме приметили его ревность, хотя он скрывал ее ото всех, а особливо от жены.
Случилось же по времени, на горькую беду ему, что необходимо надобно было отлучиться от дому на три дни. Он воздыхал, стенал и мучился, но необходимость на это не смотрит, и он повиновался ее велению. Проехав несколько верст, занимаясь женою и соседом, он с ужасом вспомнил, что не наказал жене не принимать соседа к себе в дом. «Иван! – вскричал он, побледнев, – сейчас отпряги одну лошадь и скачи что есть силы домой. Скажи жене, чтобы она отнюдь не принимала к себе соседа, сколько бы он ни просил, сколько бы ни заклинал: нет, нет!»
Иван поскакал, а господин все еще вопил вслед ему, наказывая строго. Приехав домой, Иван сказал госпоже: «Супруг ваш приказал вам отнюдь, ни под каким видом, никоим образом, сколько бы вам ни хотелось того, не садиться на спину Султана, нашего большого меделянского кобеля,[60] и не ездить на нем верхом!»
Она крайне подивилась сумасшествию мужа, и Иван поехал обратно.
В первый день жена только думала, какая бы причина была мужу запрещать то, о чем она никогда и не мыслила; да и какое в том может быть удовольствие? Мысли сии занимали ее до ночи. Второй день прошел в рассуждении, почему бы этого и не сделать. Конечно, муж считает ее ребенком или куклою, что хочет заставить слепо повиноваться безумной своей воле. Она была в нерешительности. На третий день досада овладела ею. Она ходила из комнаты в комнату, но в воображении ее был меделянский кобель. Наконец, около обеда, она вскричала: «Так! покажу ему, что со мною так глупо шутить не должно». С сими словами быстро вышла на двор, где Султан на цепи попрыгивал, и села на него верхом. Но жестокий медиоланец, конечно не привыкший возить на себе кого-либо, озлился, зарычал, рванулся, и бедная госпожа покатилась кубарем на землю. Вскочив, бросилась она без души в покой, посмотрелась в зеркало, и – увы! – изрядный рог возвышался на лбу, и правый глаз украшался багровым под ним пятном; на руках было несколько царапин от лап неверного Султана. Она заплакала горько, как в тот же миг повозка застучала на дворе и страстный муж, влетев в комнату, протянул к ней руки и с трепетом любовника остановился, увидя на лбу рог, на глазах слезы, под глазом синее пятно, а на руках кровь.
– Что это значит, моя дражайшая? – вскричал он.
– Ты должен был это предвидеть, – отвечала жена с бешенством, – тебе хотелось видеть меня в сем положении. Бесчувственный, изверг, чудовище! Вздумалось ли бы мне садиться верхом на меделянского кобеля, если б ты не прислал Ивана мне запрещать то?
Господин взглянул грозно на Ивана; но сей, с таинственным видом выведши его в другую комнату, сказал:
– Милостивый государь! правда, я вашим именем запрещал ей то, и без сего она подлинно бы и не вздумала; но обстоятельство сие вам открывает все. Если б я запретил ей не впускать соседа, то вместо того, что теперь беспрестанно думала она поездить верхом на Султане, тогда – впустить соседа, поговорить с ним было бы беспрестанное занятие мыслей ее. Что ж из всего? Она не скрепилась, поехала верхом и получила на лбу небольшой рог и под глазом синее пятнышко. Поверьте мне, она также бы не скрепилась, впустила бы соседа, а следствие? Может быть бы, к сему времени было у вас два рога, и пребольшие; несколько черных пятен на всех часах вашей жизни.
Господин поражен был истиною; обнял мудрого слугу и, говорят, навсегда кинул ревность.
Эта повесть весьма кстати пришлась к нашим господам Простаковым. Если б муж не так строго запрещал идти в дом отца Ивана, жена не так бы нетерпеливо того желала.
Проведши несколько времени в нерешительности, она наконец вскочила. «Дочки, одевайтесь! идем к отцу Ивану. Пусть его бесится, сколько хочет! Мы сносим двадцать его прихотей на день, так почему не снести ему одной нашей в год». Таким образом, уборка началась, продолжалась успешно и кончилась около восьми часов: самое способное время идти на вечеринку.
Когда вошли они в покой священника, вся знать уже собралась: судья сидел в первом месте и курил трубку; исправник держал в руках рюмку вина и, уверяя, что это – душеспасительный напиток, опорожнил ее. Госпожа судьиха махалась опахалом, стараясь как можно больше вертеть середним пальцем правой руки, чтобы виднее сделать бирюзу в ее перстне, осыпанную розами. Госпожа исправничиха шептала ей на ухо: «Куда, право, как гадка эта госпожа Простакова! сделать на нее платье – много стоит; но самое платье не стоит ни полушки. А дочки-то: одна вертлявая кукла, другая деревянная статуя».
Священник принял г-жу Простакову с ее дочерьми отлично. Уже все уселись, завели разговор о будущем дне, о чистом понедельнике,[61] как вдруг выходят из боковой комнаты князь Гаврило Симонович и Никандр. Он увидел Елизавету, она – его: оба вспыхнули. Никандр зашатался; глаза Елизаветы закрылись. Все гости пришли в смятение, как г-жа Простакова вскрикнула: «Ах! нам изменили! Ах, что-то будет!»
Она вскочила, взяла обеих дочерей за руки и хотела идти, как быстро вбежал Иван Ефремович со всеми знаками гнева и негодования. Он хотел что-то сказать, но жена, вскричав: «Виновата, крайне виновата, друг мой», его обезоружила. Он довольствовался раскланяться с гостьми и хозяином и ушел быстро; за ним его семейство. Елизавету мать и сестра вели под руки; князь увел Никандра в ту же минуту в его комнату.
– Какой странный человек этот Иван Ефремович, – говорил князь Гаврило Симонович, – а не без чего еще меня послал сюда! Как не суметь владеть поступками жены? – Вдруг пришла ему на мысль княгиня Фекла Сидоровна; он закраснелся и замолчал.
Глава XIII
Две речи
Гости, не могли надивиться такому чудному происшествию. Скромный Простаков входил в великом сердце; бешеная (как обыкновенно величали) жена его стала кротка, как овца; Елизавета едва жива; молодой живописец не в лучшем положении; а старый приезжий гость был в великой печали. «Тут, конечно, есть тайна», – вскричали все в один голос и приступили к священнику, требуя объяснения; но он божился, что и сам не больше других знает, как что старого гостя зовут г-ном Кракаловым, а молодого живописца – Никандром.
Все долго ломали головы, стараясь догадаться и тем блеснуть в целом именитом собрании, заслужив титло первого изобретателя; по что один произносил, то другой опровергал, и дело дошло прежде до небольшого, а там и до жаркого спора, вскоре до формальной ссоры, а там и брани. Уже слышны были с разных сторон звучащие прелестные слова: «Так может судить разумный бык! Так сказать может велемудрая индейка! Скорее догадается баран! С меньшим жаром визжит сука, змиею ужаленная! Такие замыслы вмещаются в голове, похожей на винную бочку, или в такой, которая нагружена ябедою, смутами, сплетнями и любовными шашнями! Ах! Что такое? Ага, догадалась! Как? что? докажи! и так ясно!»









