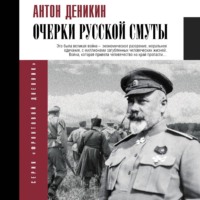полная версия
полная версияБорьба генерала Корнилова. Август 1917 г. – апрель 1918 г.
Вернулся Львов в Петроград, окончательно сбитый с толку в той атмосфере беспардонной фронды и кричащей о себе и своих тайнах на каждом шагу «конспирации», которая окружала Ставку. И привез целый ряд «государственных актов», составленных и врученных ему Завойко: проект манифеста к армии от имени Корнилова, принимавшего на себя верховную власть; проект воззвания к солдатам по поводу дарования им земельных наделов – аграрная программа Яковлева, если верить Львову, сильно напоминавшая демагогический проект большевистского генерала Сытина[[42] ]; список министров нового кабинета, тут же наскоро набросанный Завойко при благосклонном участии самого Львова[[43] ], словесное внушение Завойко, развивавшая по своему указания Корнилова, – предъявить правительству три пункта: 1) «немедленная передача правительством военной и гражданской власти в руки Верховного главнокомандующего 2) немедленная отставка всех членов Временного правительства и 3) объявление Петрограда на военном положении». Наконец, вернулся Львов с твердым убеждением, основанным на всем слышанном, что Корнилов желает спасти Керенского, но что в Ставке вынесли Керенскому «смертный приговор». Это последнее обстоятельство по-видимому окончательно нарушило душевное равновесие Львова и отразилось на всем характере второго разговора его с Керенским и в значительной мере повлияло на решение последнего. Маленькая житейская подробность, вероятно небезынтересная для бывшего премьера, который в своей книге не раз останавливается на грозившей ему смертельной опасности, очень туманно касаясь источников ее: 26-го для него в Могилеве, в губернаторском доме, приготовили комнату рядом со спальней Корнилова, выселив для этой цели одного из членов его семьи… Верховный не играл своим словом.
26-го августа Львов – у Керенского и передает ему результаты своих переговоров в Ставке. Посоветовав Керенскому не ехать в Ставку, Львов предъявил ему те предложения, которые были формулированы Завойко. «Когда я услышал все эти нелепости – показывает Керенский – мне показалось, что он (Львов) болен или случилось действительно что-то очень серьезное… Те, кто были возле меня, могут засвидетельствовать, как сильно я был расстроен… Успокоившись несколько, я умышленно уверил Львова, что больше не имею ни сомнений, ни колебаний и решил согласиться. Я стал объяснять Львову, что я не могу представить Временному правительству такое сообщение без доказательств… Под конец я попросил его изложить письменно все корниловские предложения».
Львов написал:
«1) Объявить в Петрограде военное положение.
2) Вся военная и гражданская власть должна быть передана в руки Верховного главнокомандующего.
3) Все министры, не исключая премьера должны подать в отставку. Временно исполнительная власть должна быть передана товарищам министров впредь до сформирования правительства Верховным главнокомандующим».
В. Львов Петроград 26-го августа.
«Было необходимо – говорит Керенский – доказать немедленно формальную связь между Львовым и Корниловым настолько ясно, чтобы Временное правительство было в состоянии принять решительные меры в тот же вечерь… заставив Львова повторить в присутствии третьего лица весь его разговор со мной».
Для этой цели был приглашен помощник начальника милиции Булавинский, которого Керенский спрятал за занавеской в своем кабинете во время второго посещения его Львовым. Булавинский свидетельствует, что записка была прочтена Львову и последний подтвердил содержание ее, а на вопрос, «каковы были причины и мотивы, которые заставили генерала Корнилова требовать, чтобы Керенский и Савинков приехали в Ставку», он не дал ответа.
Львов категорически отрицает версию Керенского. Он говорит: «Никакого ультимативного требования Корнилов мне не предъявлял. У нас была простая беседа, во время которой обсуждались разные пожелания в смысле усиления власти. Эти пожелания я и высказал Керенскому. Никакого ультимативного требования (ему) я не предъявлял и не мог предъявить, а он потребовал, чтобы я изложил свои мысли на бумаге. Я это сделал, а он меня арестовал. Я не успел даже прочесть написанную мною бумагу, как он, Керенский, вырвал ее у меня и положил в карман».
Теперь уже все государственные вопросы отошли на задний план. Глава правительства в наиболее критический момент для государства перестает взвешивать его интересы и, будучи во власти одной болезненно-навязчивой идеи, стремится лишь всеми силами к отысканию неопровержимых улик против «мятежного» Верховного. Перед нами проходит ряд сцен, в которых развернулись приемы сыска и провокации: эпизоды с запиской Львова и с Булавинским, и наконец, разговор Керенского совместно с Вырубовым по аппарату с Корниловым от имени премьера и… отсутствующего Львова. Больше всего Керенский боится, чтобы ответ Корнилова по самому существенному вопросу – о характере его предложений – не внес каких либо неожиданных изменений в толкование «ультиматума», которое он старался дать предложению Корнилова в глазах страны и правительства. Думский и политический деятель, правитель волею революции и юрист по профессии не мог не сознательно облечь в такие умышленно темные формы главное существо вопроса:
– Просим подтвердить, что Керенский, может действовать, согласно сведениям, переданным Владимиром Николаевичем (Львовым).
– Вновь подтверждая тот очерк положения, в котором мне представляется страна и армия, очерк сделанный мною В. Н-чу, с просьбой доложить вам, я вновь заявляю, что события последних дней и вновь намечающиеся повелительно требуют вполне определенного решения в самый короткий срок.
– Я, Владимир Николаевич(?), вас спрашиваю: то определенное решение нужно исполнить, о котором вы просили известить меня Александра Федоровича только совершенно лично; без этого подтверждения лично от вас А. Ф. колеблется мне вполне доверить.
– Да, подтверждаю, что я просил вас передать А. Ф-чу мою настойчивую просьбу приехать в Могилев.
– Я, А. Ф., понимаю ваш ответ, как подтверждение слов, переданных мне В. Н. Сегодня этого сделать и выехать нельзя. Надеюсь выехать завтра. Нужен ли Савинков?
– Настоятельно прошу, чтобы Б. В. приехал вместе с вами… Очень прошу не откладывать вашего выезда позже завтрашнего дня. Прошу верить, что только сознание ответственности момента заставляет меня так настойчиво просить вас.
– Приезжать ли только в случае выступления, о котором идут слухи, или во всяком случае?
– Во всяком случае.
Этот разговор обличает в полной мере нравственную физиономию Керенского, необычайную неосмотрительность Корнилова и сомнительную роль «благородного свидетеля» Вырубова.
Только в этот день поздно вечером, 26 августа, поехал к своим войскам Крымов, которому были даны Верховным две задачи: 1) «В случае получения от меня или непосредственно на месте (сведений) о начале выступления большевиков, немедленно двигаться с корпусом на Петроград, занять город, обезоружить части петроградского гарнизона, которые примкнут к движению большевиков, обезоружить население Петрограда и разогнать советы; 2) По окончании исполнения этой задачи генерал Крымов должен был выделить одну бригаду с артиллерией в Ораниенбаум и по прибытии туда потребовать от Кронштадтского гарнизона разоружения крепости и перехода на материк»[[44] ].
Этот документ, которому Керенский придает такое уличающее значение в квалификации корниловского выступления «мятежом», по существу вытекал непосредственно из всей создавшейся обстановки: войска Крымова по требованию правительства шли к Петрограду; ожидавшееся большевистское выступление неизбежно втягивало в себя советы, так как почти половина состава Петроградского совета была большевистской; так же неизбежно было, безотносительно даже от чисто большевистского восстания, выступление революционной демократии в лице советов в тот день, когда объявлены были бы первые меры «правительственной твердости». Наконец, самый сдвиг правительства от Совета к Ставке, который после Львовской миссии и последнего телеграфного разговора считался вопросом ближайших одного – двух дней, должен был произвести оглушительный взрыв в недрах советов… Что же касается ликвидации Кронштадтского мятежного гнезда, то согласие на нее было дано министром-председателем еще 8-го августа.
Утроить 27-го Ставка была поражена неожиданной новостью: получена была телеграмма, передающая личное распоряжение Керенского, в силу которого Корнилов должен был немедленно сдать должность Лукомскому и выехать в Петроград…
Стремление «охранять завоевания революции», нерешительность, обман и провокация – можно называть какими угодно именами те действия и бездействию, которые проявлены были министром-председателем, но сущность их не подлежит никакому сомнению: они были лишены государственной целесообразности и предвидения. Керенский с большим удовлетворением повторяет «образное выражение» Некрасова, что «благодаря приезду Львова, стало возможным взорвать приготовленную мину на два дня раньше срока». Но это «образное выражение» значительно теряет свое радостное содержание, если вспомнить, что мину взорвали в теле Родины и что можно было, не взрывая, просто потушить фитиль, ставь на прямую открытую дорогу, не угрожавшую завоеваниям революции, и даже в начале не причинявшую большого ущерба политической карьере премьера.
Керенский дает сбивчивые показания о порядке разрешения вопроса об удалении с поста Корнилова, утверждая, что мера эта была принята Временным правительством в заседании 26 августа. Никаких письменных следов такого постановления нет; бурное заседание это, окончившееся в 5 часов утра, обсуждало главным образом требование Керенского о предоставлении ему чрезвычайных (диктаторских) полномочий и хотя и выяснило принципиальное согласие почти всех министров вручить председателю свою отставку, но к окончательным решениям не привело. По крайней мере, по свидетельству Кокошкина, на другой день, 27-го, на 11 часов утра было назначаю новое заседание «для оформления – как заявил Некрасов – всех принятых решений». Но заседание не состоялось. Члены правительства собрались только 28-го на частное заседание, которое явилось последним, так как Керенский действовал уже самостоятельно, считая себя восприявшим единолично верховную власть. «Временное правительство» – этот фетиш, который так крикливо и лицемерно оберегался Керенским от притязай Корнилова, «дерзнувшего предъявить Временному правительству требование передать ему власть», было им распущено и отстранено от участия в государственном управлении. «Дерзать», следовательно, можно было только Керенскому. Тем не менее, среди правительства и советских кругов царила полная растерянность. В Смольном происходили день и ночь тревожные заседания и принимались необычайные меры изолирования здания и самообороны. Еще 28-го новый диктатор в частном заседании бывшего правительства определял положение почти безнадежным: крымовские войска шли на Петроград, и испуганному воображению диктатора уже рисовалось приближение страшных кавказских всадников «Дикой дивизии»… Усиливалось и политическое одиночество премьера: большинство бывших членов правительства высказалось за мирную ликвидацию Корниловского выступления и образования директории с участием генерала Алексеева, с совмещением им должности Верховного; а кадеты, поддержанные извне Милюковым, настаивали даже на том, чтобы Керенский покинул правительство, передав власть генералу Алексееву. В этом назначении они видели не только перемену правительственной политики, но и наилучший способ бескровной ликвидации корниловского выступления, так как не было сомнений, что Корнилов подчинится тогда Алексееву.
В то же время ряд лиц, в том числе генерал Алексеев, Милюков, президиум казачьего Совета и другие вели настойчивые переговоры с Керенским о примирении его со Ставкой. Даже вдохновитель Керенского г. Некрасов, сыгравший такую печальную Голь в поспешном оповещении страны о «мятеже Корнилова[[45] ], по свидетельству Кишкина, в этот день, «лежа в изнеможении на кушетке» на вопрос Керенского ответил:
– Я нахожу, что без того или иного участия генерала Алексеева в составе правительства нельзя разрешить кризиса.
Керенский не хотел слышать ни об оставлении власти, ни о примирении с «мятежным генералом».
– Оставшись один, – заявил он, – я ухожу к «ним».
И ушел в соседнюю комнату, где его ожидали Церетелли и Гоц.
В окончательном итоге судьбы движения решили «они», т. е. советы.
27-го августа Керенский поведал стране о восстании Верховного главнокомандующего, причем сообщение министра-председателя начиналось следующей фразой: «26 августа генерал Корнилов прислал ко мне члена Государственной Думы В. Н. Львова с требованием передачи Временным правительством всей полноты военной и гражданской власти, с тем, что им по личному усмотрению будет составлено новое правительство для управления страной».
В дальнейшем Керенский, триумвират Савинков, Авксениьев и Скобелев, петроградская дума с А. А. Исаевым и Шрейдером во главе и советы лихорадочно начали принимать меры к приостановке движения войск Крымова и, вместе с тем, целым рядом воззваний, обращенных к народу, армии, комитетам, железнодорожникам, местным комиссарам, советам и т. д. стремились опорочить движение и вызвать ненависть против его главы. Во всех этих воззваниях не было правдивого, фактического и юридического обоснования, – они отражали лишь более или менее холерический темперамент составителей. «Мятеж», «измена родине и революции», «обнажение фронта» – вот главные мотивы Но постыднее всех было воззвание Чернова от имени исполнительного комитета Всероссийского съезда крестьянских депутатов. Оно начиналось обращением к «крестьянам в серых солдатских шинелях» и приглашало их «запомнить проклятое имя человека», который хотел «задушить свободу, лишить вас (крестьян) земли и воли!» Участник Циммервальда, член редакционного комитета газеты «На чужбине», состоявшей на службе у германского генерального штаба, пролил слезу и над участью «родной земли», страдающей от «опустошения, огня, меча чужеземных императоров», – земли, от защиты которой отвлекаются «мятежником» войска.
А в то же время новый петроградский генерал-губернатор, Б. Савинков, собирал революционные войска для непосредственной обороны Петрограда – занятие тем более трудное, что петроградский гарнизон отнюдь не имел желания отдавать свою жизнь за Временное правительство, а юнкерские караулы в Зимнем Двор же, по свидетельству того же Савинкова, приходилось сменять по несколько раз в ночь из опасения «измены». В организации военной обороны, за отсутствием доверия к командному составу, принимали деятельное участие такие специалисты военного дела, как Филоненко и… Чернов, причем последний «объезжал фронт и высказывал неожиданные (стратегические) соображения»[[46] ]…
Между прочим, в какой-то газете или информации промелькнуло совершенно нелепое сведение об участии генерала Алексеева совместно с Савинковым в тактической разработке плана обороны подступов к столице против корниловских войск. Не взирая на всю вздорность этого слуха, Корнилов склонен был верить ему и однажды в Быхове, передавая мне этот эпизод, сказал:
– Я никогда не забуду этого.
С большим трудом мне удавалось рассеять его предубеждение.
Должен заметить, что какие то влияния все время усиленно работали над созданием недружелюбных отношений между генералами Алексеевым и Корниловым; искажались факты, передавались не раз вымышленные злые и обидные отзывы, долетавшие извне даже до Быхова. Кому то нужно было внести элемент раздора в ту среду, которую не разъедало политическое разномыслие.
В последние дни августа Петроград представлял из себя разворошенный муравейник. И не взирая на громкие, возбуждающие призывы своих вождей, – призывы, скрывавшие неуверенность в собственных силах, революционная демократия столицы переживала дни смертельной тревоги. Приближение к Петрограду «ингушей» заслонило на время все прочие страсти, мысли и интересы. А некоторые представители верховной власти торопливо запасались уже заграничными паспортами…
Глава VI. Выступление генерала Корнилова. Ставка, военноначальники, союзные представители, русская общественность, организации, войска генерала Крымова – в дни выступления. Смерть генерала Крымова. Переговоры о ликвидации выступления
Если в Петрограде положение было крайне неопределенным, то еще больший хаос царил в противном лагере.
Керенский приказал вступить в верховное командование последовательно начальнику штаба Верховного, генералу Лукомскому[[47] ], затем главнокомандующему Северным фронтом генералу Клембовскому. Оба отказались: первый – бросив обвинение Керенскому в провокации, второй – «не чувствуя в себе ни достаточно сил, ни достаточно уменья для предстоящей тяжелой работы»… Генерал Корнилова придя к убеждению, что «правительство снова подпало под влияние безответственных организаций и, отказываясь от твердого проведения в жизнь (его) программы оздоровления армии, решило устранить (его), как главного инициатора указанных мер[[48] ], – решил не подчиниться и должности не сдавать.
27-го в Ставку начали поступать петроградские воззвания, и Корнилов, глубоко оскорбленный их внешней формой и внутренней неправдой, ответил со своей стороны рядом горячих воззвании к народу, армии, казакам. В них, описывая исторический ход событий, свои намерения и «великую провокацию»[[49] ], он клялся довести страну до Учредительного собрания. Воззвания, искусственные по стилю[[50] ], благородные и патриотические по содержанию, остались гласом вопиющего в пустыне. «Мы» и без них всей душой сочувствовали корниловскому выступлению; «они» – шли только за «реальными посулами и подчинялись только силе. А, между тем, во всех обращениях слышалась нота душевной скорби и отчаяния, а не сознание своей силы. Кроме того, тяжело переживая события и несколько теряя равновесие, Корнилов в воззвании 27 августа неосторожно заявил, что „Временное правительство, под давлением большевистского большинства советов, действует в полном согласии с планами германского генерального штаба, и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье, убивает армию и потрясает страну внутри“. Это неосторожное обобщение всех членов Временного правительства, которых, за исключением быть может одного, можно было обвинять в чем угодно, только не в служении немцам, произвело тягостное впечатаете на лиц, знавших действительный взаимоотношения между членами правительства, и особенно на тех, кто в среде его были духовно сообщниками Корнилова.
Образ, сравнение, аналогия – в редакции Завойко выражены были словом «согласие». Без сомнения и Корнилов не придавал прямого значения этому обвинению Временного правительства, ибо 28-го он уже приглашал его в Ставку, чтобы совместно с ним выработать и образовать «такой состав правительства народной обороны, который, обеспечивая победу, вел бы народ русский к великому будущему».
28-го Керенский потребовал отмены приказания о движении 3-то конного корпуса на Петроград. Корнилов отказал и, на основании всей создавшейся обстановки придя к выводу, что «правительство окончательно подпало под влияние Совета», решил: «выступить открыто и, произведя давление на Временное правительство, заставить его: 1. исключить из своего состава тех министров, которые по имеющимся (у него) сведениям были явными предателями Родины; 2. перестроиться так, чтобы стране была гарантирована сильная и твердая власть». Для оказания давления на правительство он решил воспользоваться войсками Крымова, которому 29 августа послано было соответствующее приказание.
И так, жребий брошен – началась открыто междоусобная война.
Мне не раз приходилось слышать упреки по адресу Корнилова, что он сам лично не стал во главе войск, шедших на Петроград и не использовал своего огромного личного обаяния, которое так вдохновляло полки на поле сражения… По-видимому и войсковые части разделяли этот взгляд. По крайней мере в хронике Корниловского ударного полка читаем: «настроение корниловцев было настолько приподнятое, что, прикажи им генерал идти с ним на Петроград, много было шансов, что взяли бы. Корниловцы увлекли бы за собой и других… Но почему-то генерал Корнилов, первоначально решившись, казалось, все поставить на карту, внезапно заколебался и, остановившись на пол дороге, не захотел рискнуть своим последним козырем – Корниловским и Текинским полками». Интересно, что и сам Корнилов впоследствии считал крупной своей ошибкой то обстоятельство, что он не выехал к войскам… Несомненно появление Корнилова с двумя надежными полками решило бы участь Петрограда. Но оно вряд ли было выполнимо технически: не говоря уже о том, что с выходом полков из Ставки весь драгоценный аппарат ее попал бы в руки местных советов, предстояло передвинуть могилевские эшелоны, исправляя пути, местами вероятно с боем – на протяжении 65-и верст! 26-го Корнилов ждал приезда Керенского и Савинкова;
27-го вел переговоры в надежде на мирный исход, а с вечера этого дня пути во многих местах были разобраны и бывшие впереди эшелоны Туземной дивизии и 3-го конного корпуса безнадежно застряли, разбросанные на огромном протяжении железнодорожных линий, ведущих к Петрограду. Было только две возможности: не ведя переговоров, передав временное командование генералу Лукомскому, выехать 27-го с одним эшелоном на Петроград, или позже перелететь на аэроплане в район Дуги, рискуя, впрочем, в том и другом случае вместо «своих» попасть к «чужим», так как с Крымовым всякая связь была прервана. Обе эти возможности сильно ударялись в область приключений.
В Могилеве царило тревожное настроение. Ставка работала по-прежнему, и в составе ее не нашлось никого, кто бы посмел, а, может быть, кто бы хотел не исполнить приказания опального Верховного… Ближайшие помощники Верховного, генералы Лукомский и Романовский и несколько других офицеров сохраняли полное самообладание. Но в души многих закрадывались сомнение и страх. И среди малодушных начались уже панические разговоры и принимались меры к реабилитации себя на случай неуспеха. Бюрократическая Ставка по природе своей могла быть мирной фрондой, но не очагом восстания.
В гарнизоне Могилева не было полного единства: он заключал в себе до трех тысяч преданных Корнилову – корниловцев и текинцев – и до тысячи солдат Георгиевского батальона, тронутых сильно революционным угаром и уже умевших торговать даже своими голосами[[51] ]… Георгиевцы, однако, чувствуя себя в меньшинстве, сосредоточенно и угрюмо молчали; иногда, впрочем, происходили небольшие побоища на глухих городских улицах между ними и «корниловцами». И когда 28-го августа генерал Корнилов произвел смотр войскам гарнизона, он был встречен могучими криками «ура» одних и злобным молчанием других. «Никогда не забыть присутствовавшим на этом историческом параде – говорится в хронике Корниловского полка – небольшой, коренастой фигуры Верховного… когда он резко и властно говорил о том, что только безумцы могут думать, что он, вышедший сам из народа, всю жизнь посвятивший служению ему, может даже в мыслях изменить народному делу. И задрожал невольно от смертельной обиды голос генерала, и задрожали сердца его корниловцев. И новое, еще более могучее… „ура“ покатилось по серым рядам солдат. А генерал стоял с поднятой рукой… словно обличая тех, кто нагло бросил ему обвинение в измене своей Родине и своему народу»…
Если бы этот могучий клик мог докатиться до тех станций, полустанков, деревень, где столпились и томились сбитые с толку, не понимавшие ничего, в том что происходит, эшелоны крымовских войск!..
Город притих, смертельно испуганный всевозможными слухами, ползущими из всех углов и щелей, ожиданием междоусобных схваток и кровавых самосудов.
* * *Старый губернаторский дом на высоком, крутом берегу Днепра, в течение полугода бывший свидетелем стольких исторических драм, хранил гробовое молчание. По мере ухудшения положения стены его странно пустели и в них водворилась какая-то жуткая, гнетущая тишина, словно в доме был покойник. Редкие доклады и много досуга. Опальный Верховный, потрясенный духовно, с воспаленными глазами и тоскою в сердце, целыми часами оставался один, переживая внутри себя свою великую драму, драму России. В редкие минуты общения с близкими, услышав робко брошенную фразу, с выражением надежды на скорый подход к столице войск Крымова, он резко обрывал:
– Бросьте, не надо.
Все понемногу рушилось. Последние надежды на возрождение армии и спасение страны исчезали. Какие еще новые факторы могли спасти положение?
Разговор по телеграфу 27 августа с Савинковым и Маклаковым не мог внушить никакого оптимизма. Из них первый в пространном и нравоучительном наставлении убеждал Корнилова «во имя несчастной родины нашей» подчиниться Временному правительству; второй – «принять все меры (чтобы) ликвидировать недоразумение без соблазна и огласки»… Было ясно, что искусственная редакция обращения Савинкова имеет целью личную реабилитацию его в глазах кругов, стоявших на стороне Керенского, оправдание тех загадочных для революционной демократии и самого Керенского связей, которые существовали между военным министерством и Ставкой. Или, как говорил сам Савинков, – «для восстановления исторической точности».