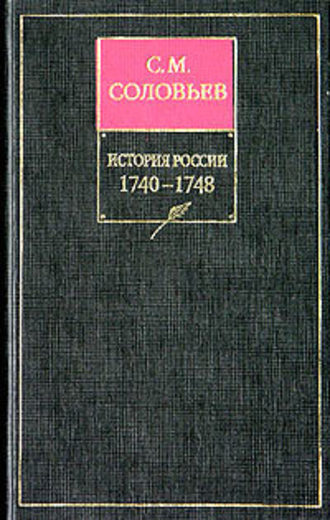 полная версия
полная версияИстория России с древнейших времен. Книга XI. 1740–1748
Этот любопытный разговор вскрывает нам ход дел в Иностранной коллегии. Президент ее, канцлер, не ездит в коллегию, нужнейшие дела исправляет у себя дома, а между тем слышит, что его упрекают в деспотизме, в присылании указов членам коллегии; он призывает к себе Веселовского и оправдывается в своем поведении, складывая вину на него, на то, что не находит помощи в коллегии, жалуется, что там ведут дела не так, не по регламенту, а между тем сам признается, что приучил вести дела неправильно, делал чего не следует, предлагал свое мнение, не собирая голоса с младших. Веселовский наивно и грубо отвечает: давно бы сказал, что надобно поступать по регламенту, так бы и поступали. Бестужеву особенно чувствительны были нарекания на его поведение в коллегии потому, что вице-президентом ее был Воронцов, его враг. Бестужев удалил из коллегии воронцовского клиента Неплюева, пославши его в Константинополь, но теперь получались известия, что и Веселовский, выведенный Бестужевым по старым приятельским отношениям, перешел на сторону Воронцова.
О поведении врагов канцлера, Воронцова и Лестока, мы продолжаем узнавать из депеш Финкенштейна. Воронцов уверял Финкенштейна, что прусскому королю нечего опасаться ни от последнего заключенного Россиею трактата, ни от похода тридцатитысячного русского корпуса. «Я, – доносил Финкенштейн своему королю, – имевши много случаев находить сообщаемые им известия справедливыми и хвалиться добрым его расположением к интересам вашего величества, я не могу думать, чтоб. он меня в этом случае хотел обмануть. Он, правда, боязлив, но эта боязливость заставляет его скрывать от меня некоторые подробности только, и я никак не думаю, чтобы он захотел представить мне не то, что на самом деле». Но кроме Воронцова, приятеля важного, у Финкенштейна был еще приятель неустрашимый – Лесток. Этот объявлял ему о всеобщем неудовольствии, которое возбуждено походом тридцатитысячного корпуса за границу. «Боюсь одного, – говорил Лесток, – чтоб канцлер нарочно не замедлил походом с целью не допустить войско прийти вовремя и вступить в дело с неприятелем, потому что если случится противное дело дойдет до битвы, то можно биться об заклад, что русские потерпят неудачу: прежняя дисциплина исчезла и командующий генерал Ливен не любим войском; поражение войска составляет теперь желание всех благонамеренных генералов; многие из них говорили мне, что нет другого средства заставить императрицу открыть глаза насчет канцлера; если дела пойдут хорошо, то нечего и думать о перемене; надобно получить пощечину, и тогда нетрудно будет свергнуть канцлера». По поводу этой депеши Бестужев заметил: «Такою изменническою о войсках ее импер. величества хулою король прусский столько ободрится, что с ее величеством равняться думает, вместо того что дед и отец его и зависимости государя Петра Великого были. Совсем ложь: генерала Ливена не только солдаты, но и офицеры все любят и почитают. А как долго сии изменники не искоренятся, то и помышлять нечего, чтоб они к присяжной своей должности обратились, ибо злость их и ненависть на канцлера не допущает их чувствовать, что они, желая его погубить, вредят интересам своей монархии и отечества».
Воронцов старался отстранять причины неудовольствия Елисаветы на Фридриха II. Одною из причин неудовольствия был отказ Фридриха отдать русских солдат-великанов, присланных отцу его прежними правительствами. Воронцов внушал Финкенштейну, что если Фридрих возвратит несколько из них в Россию, то нет сомнения, что это произведет самое полезное впечатление в мыслях императрицы; он, Воронцов, знает наверное, что это дело представлено ей с религиозной точки зрения и всякий день толкуют ей об этом, чтоб раздражить ее против прусского короля. Воронцов в разговорах с Финкенштейном укорял Бестужева, что тот посылкою тридцатитысячного корпуса вовлекал Россию в европейские замешательства. Бестужев по этому случаю замечает: «Ее и. в-ства слава и интересы требуют в европейские дела мешаться. Петр Великий столько о том старался, что помощный корпус на своем собственном иждивении отправить рад был бы. Инако же разве турками или персианами быть запертыми в своих границах? Пример тому недавно сделался, что когда король прусский в чужие дела вмешался, а с здешней стороны никакого движения против того чинено не было, то он до такой силы дошел, что подлинно наиопаснейшим соседом есть».
В конце марта месяца Финкенштейн доносил своему двору об опасной грудной болезни генерал-прокурора князя Трубецкого, прибавляя: «Смерть князя Трубецкого подлинно была бы великая потеря, и канцлер избавился бы от самого опасного неприятеля, какого он в здешней земле когда-либо имел. Графы Лесток и Воронцов, которые связаны с ним дружбою, очень беспокоятся». Бестужев заметил: «Из сего ее имп. величество усмотреть изволит, в каких людях сия шайка состоит».
Бестужева очень обрадовала депеша Финкенштейна от 23 июля, из которой оказалось, что Воронцов получает пенсию от прусского двора. Финкенштейн писал королю: «Так как срок пенсии, которую вашему величеству угодно жаловать важному приятелю, истек 1 сентября прошлого года, то я считаю долгом испросить приказаний вашего величества относительно ее, тем более что приятель, не называя вещь ее именем, однако, дал мне знать, что надеется на продолжение к нему милостей вашего величества. Я должен также прибавить, что хотя настоящее положение дел не дает ему возможности быть полезным в той же степени, в какой он был прежде, однако он продолжает быть одинаково благонамерен и сообщать мне от времени до времени то, что, по его мнению, может быть полезно службе вашего величества». Бестужев замечает: «Христос во евангелие глаголет, не может раб двума госнодинома работати, богу и мамоне; а между тем из сего видно, что сия сумма еще прежде бытности его в Берлине знатно чрез Мардефельда назначена. Сие же теперь толь больше вероятности подает подаванным от казненного в Пруссии тайного советника Фербера к полковнику Виттингу известиям, которых оригиналы из коллегии скрадены, и тому письменному известию, каково камергер Чоглоков при проезде своем чрез Берлин от бывшего там секретаря Лоренца получил, а именно что вице-канцлер сообщил королю прусскому из Дрездена о плане саксонцев; король прусский их предупредил и тем Саксонию разорил».
В конце августа Лесток дал знать Финкенштейну, что императрица сильно раздражена против морских держав, говорила, что, по-видимому, хотят уничтожить ее войска; но впрочем, венский двор не перестает быть любимым двором. Уведомляя об этом, Финкенштейн писал королю: «Выходит из этих слов, что возникло охлаждение между русским двором и морскими державами, которым благонамеренные могли бы воспользоваться, если б они имели мужество и способны были к деятельности. Говорят сильнее прежнего о путешествии в Москву. Канцлер, впрочем, еще не отчаивается отклонить его и сильно хлопочет об этом под рукою». Бестужев замечает: «Ее импер. величеству лучше известно, изволила ли такие разговоры при Лестоке держать; но преступление его в том равно, лгал ли он на ее величество или верный рапорт делал министру короля прусского. Ее императ. величество из прежних писем уже усмотреть изволила, что Лесток советовал, чтоб ни министра ее величества на конгресс не допущать, ни же России в мирный трактат не включать».
Вслед за тем Финкенштейн писал: «Я внушил обоим приятелям, что такое положение дел в соединении с раздражением императрицы мне кажется благоприятным случаем, которого не должно упускать, что именно теперь надобно раскрыть пред императрицею недостойное поведение ее первого министра, что затруднения, которые делают России в Ахене, чтоб не допустить ее до участия в деле умиротворения Европы, и печальное состояние русского войска доставляют страшные доказательства против канцлера и можно сделать эти представления так, что тщеславие императрицы не будет затронуто, ибо она, быть может, сочтет делом своей чести поддерживать и ложные меры своего министра: надобно ей внушить, что величайшие государи имели иногда несчастие быть обманутыми безо всякой вины со своей стороны; надобно напомнить ей пример родного отца, который, несмотря на свой гений и всю свою деятельность, часто находился в таком положении и избавлялся из него посредством розысков и примерных наказаний, и тем не менее он считался во всей Европе государем мудрым, правосудным, правителем самостоятельным. Важный приятель, казалось, принял мои внушения и сказал, что не преминет воспользоваться ими при первом удобном случае; но в то же самое время я нашел его в таком душевном расслаблении вследствие обхождения с ним императрицы, что я не могу много на него рассчитывать, если только государыня сама не сделает первого шага. Я был более доволен графом Лестоком, который решился объясниться с императрицею при первом случае. Я говорил им также о поездке в Москву, на которую я смотрю как на проделку партии; я их уговорил приложить свое старание при этом и надеюсь, что они успеют, потому что императрица страстно желает этой поездки».
Не известно, объяснился ли Лесток с императрицею; известно только, что в ноябре он был арестован, и ему предложены были следующие допросные пункты: 1) зачем водил компании со шведским и прусским послами? 2) От богомерзкого человека Шетардия табакерки к тебе присланы, и именно написано было, чтобы оные герою отдать: ты, ведая, кому он сие имя давал (Елисавете) и будучи сие уже по высылке его отсюда учинено, то сие от него дерзостно сделано, а ты, как присяжный человек, таку ль верность к государю своему имеешь, что о сем утаил? Любя Шетардия, такого плута на государя своего променял! Не мог ли ты себе представить, что ежели б и партикулярной даме, в ссоре находящейся, кто-либо подарок прислал, то оный ни от кого принят быть не может, кольми же паче чести ее величества предосудительно. 3) Ты в некоторое время ее имп. величеству самой говорил, что ежели б де принцесса цербстская послушала твоих и Брюммеровых советов, то б она великого князя за нос водила: так объяви, в чем советы твои состояли? 4) Ты хочешь переменить нынешнее царствование, ибо советуешься с министрами шведским и прусским, а они ко дворам своим писали, что здешнее правление на таком основании, как теперь, долго оставаться не может. 5) Финкенштейн писал, что для произведения перемены удобным случаем была б ссора между императрицею и великим князем: не учинено ль от тебя каких откровений? 6) В тех же письмах усмотрено, что генерал-прокурор князь Трубецкой главным сообщником всех твоих злодейских замыслов был, да и то еще об нем упомянуто, что в случае воспоследуемого происшествия перемены он таким между твоею шайкою признавается, который в состоянии теми приятелями предводительствовать, кои теперь в спячке находятся, а тогда все восстанут. 7) Ты сам Финкенштейну говорил, что тебе с вице-канцлером удалось тайного советника Веселовского на свою сторону преклонить, так что он, учиня тебе весьма много откровений. и отстать не может. 8) Во время негоциации с морскими державами о перепущении им помощного корпуса ты старался все тайности у вице-канцлера сведать и о всем Финкенштейну пересказывал; уже доказано, что и сам вице-канцлер прусскому министру такие открытия чинил, с тобою же был в тесной дружбе. 9) Шапизо (капитан Ингерманландского полка, племянник Лестока) показал, что ты чрез Мардефельда от короля прусского 10000 рублей получил. Лесток ни в чем не признался; его сослали в Углич.
Падение Лестока произвело сильное впечатление при иностранных дворах; оно показывало несокрушимую силу Бестужева, показывало, следовательно, и будущее направление русской политики после важного события в Западной Европе, замирения ее на Ахенском конгрессе.
10 мая в Петербург съехались к канцлеру австрийский посол барон Бретлак, английский лорд Гиндфорд, голландский посланник Шварц, и Бретлак жаловался на медленность князя Репнина. который в Гродне напрасно жил три недели, а 13 апреля был не далее местечка Гуры. Князь Репнин, будучи болен, нарочно задерживает войска из одного желания все их вместе самому показать императору и императрице римским. По словам Бретлака. он получил от своего двора выговор, ибо твердо обнадежил, что русские войска в исходе апреля вступят в австрийские владения: теперь же, как по всему видно, они прежде июня туда не придут. Гиндфорд и Шварц жаловались еще сильнее, представляя, что французы, зная о медленном движении русского войска, которое потому в нынешнюю кампанию не может сделать им большого вреда, без малейшего опасения устремляют все свои силы против союзников, отчего общее дело очень страдает. Чернышев доносил из Лондона, что как при дворе, так и в народе главным предметом разговора служат движения русского вспомогательного корпуса. вычисляют, по скольку миль он должен делать в день и когда придет к месту назначения.
Но движение этого корпуса способствовало только скорейшему заключению мира, переговоры о котором уже начаты были в Ахене. В апреле Чернышев уведомил о заключении прелиминарных статей, по которым воюющие державы обязывались возвратить друг другу все завоевания; прусскому королю была гарантирована Силезия; Франция признавала императором германским мужа Марии Терезии. Английское министерство жаловалось Чернышеву, что Англия принуждена заключить этот мир вследствие дурного действия своих союзников, Австрии и Голландии, что король не иначе смотрит на него как на вынужденный силою и потому намерен остаться непоколебимым в своей прежней системе, т.е. находиться в теснейшей дружбе со своими собственными союзниками, особенно с русским двором; в знак чего велел отослать к графу Гиндфорду копию с прелиминарных статей и всех пьес, относящихся к мирным переговорам, для представления императрице с уверением, что король в точности исполнит все обязательства. Чернышев получил также уверение, что английское правительство не намерено вступать ни в какие теснейшие обязательства с королем прусским. Но в конвенции о перепущении русского войска было внесено условие, что в случае мирных переговоров Россия принимает в них участие, почему теперь Чернышев потребовал, чтоб русский министр был допущен на Ахенский конгресс или но крайней мере Россия была включена в окончательный трактат, дабы не испытать какой-нибудь мести со стороны держав, против которых она подала помощь своим союзникам. Чернышеву отвечали, что английский уполномоченный на конгрессе граф Сандвич предложил об этом, но получил решительный отказ со стороны французского уполномоченного графа Сан-Северина и потому Англия, нуждаясь в скорейшем заключении мира, не может более настаивать ни на допущение русского министра на конгресс, ни на включение России в окончательный договор. Но если императрица пожелает, то Англия употребит все свое старание, чтоб Россия была приглашена приступить к окончательному договору после его заключения; притом Англия обязывается не входить с Австриею и Голландиею ни в какие теснейшие союзы без предварительного сношения и согласия с русским двором. Князю Репнину, находившемуся в Элберфельде, послано было требование, чтоб немедленно возвращался назад, ибо под этим условием французы обязывались вывести из Брабанта 35000 своего войска. Но не князь Репнин привел назад русское войско: он умер 30 июля, и начальство над корпусом принял генерал-поручик Ливен.
В октябре между Чернышевым и английским министром герцогом Ньюкестлем были разговоры об Австрии по поводу столкновений ее с сардинским двором. Ньюкестль обвинял венский двор в неполитичности его действий, настаивал, что необходимо щадить сардинский двор, ибо иначе он передастся на сторону Франции; Чернышев защищал венский двор, ибо враждебность отношений к Пруссии заставляла в Петербурге поддерживать австрийские интересы во что бы то ни стало. Ньюкестль говорил, что поведение венского двора может нарушить настоящую систему и равновесие Европы; Чернышев возражал, что Австрия неоспоримо более в состоянии поддержать европейское равновесие, чем Сардинское королевство, и Ньюкестль должен был с этим согласиться, хотя продолжал выражать раздражение против Австрии.
В Вене раздражение против Англии было еще сильнее. Ланчинский еще от 30 марта сообщил своему двору о словах канцлера Улефельда, что относительно примирения Англия, кажется, благоприятствует Пруссии и что есть намерение заключить мир на одних проторях Австрии. И в апреле Улефельд пел ту же песню, жаловался на англичан, что слишком поздно заключили конвенцию с Россиею, говорил, что не заключили бы и этой конвенции, если бы не штатгалтер голландский принц Оранский, утверждал, что англичане непременно хотят ввести на конгресс прусского уполномоченного. В мае Улефельд, говоря об ахенских прелиминариях, объявил, что они чрезвычайно странны и заручены Англиею, Франциею и Голландиею в предосуждение венскому двору, которому в Италии очень мало остается; Силезия гарантируется прусскому королю, которого англичане и голландцы стараются усилить на помощь себе впредь. «Вашему и нашему двору, – говорил канцлер, – ненадобно надеяться ни на Англию, ни на Голландию и ни на какую другую державу, но твердо держаться вместе: у нас одни интересы и наши системы всех других постояннее». Но теперь при таком смутном положении дел посылается указ графу Кауницу в Ахен, чтобы подписал прелиминарии. В июне Улефельд уже толковал, что теперь необходимо стараться не только не допускать прусского короля до теснейшего соединения с Франциею, но всячески их разделять. Английские министры, говорил канцлер, объявляют другое несостоятельное мнение, что России надобно соединиться с Англиею, Пруссиею и здешним двором против Франции; но на самом деле они хотят принести нас в жертву и усилить прусского короля. Они хотят удержать субсидию, чтоб наше войско в Нидерландах голодом поморить. Нашим постоянным неприятелям, французам, мы обязаны тем, что прусского министра на конгресс не допускают. В Вене употребляли все средства, чтоб вооружить Россию против Пруссии, рассказывали Ланчинскому, что Фридрих II хочет принять католицизм для получения императорской короны, что имеет виды на Польшу; в то же время внушали, что Россия не должна настаивать на допущении своего министра на Ахенский конгресс, ибо в таком случае Англия будет настаивать на допущении прусского министра. Улефельд продолжал бранить англичан: «Не только противности, но и неучтивости их к нашему двору умножаются; и с нами-то не за что так поступать, а русские вспомогательные войска чем провинились? Для чего так странно отсылаются, не дождавшись решения их императрицы? Смехотворно объявляют, что Франция требовала их отсылки, обещая отпустить и со своей стороны такое же число войска; но французам возвращаться близко, а русским полкам 300 миль идти надобно без отдыха. На то не обратили внимания, что одно движение этих войск заставило Францию спешить с прелиминариями, если же англичане приняли эти прелиминарии себе без пользы и нам ко вреду, то русские войска к тому причины не подали».
В Дрездене Мих. Петр. Бестужева прежде всего занимал вопрос о проходе русского вспомогательного отряда через Польшу. В марте граф Брюль сообщил ему, что перенято письмо французского резидента Кастера, из которого видно, что он пишет к польским магнатам и великому гетману, как бесчестно и стыдно, что дозволяется пропуск чужим войскам через Польшу. Король очень рассердился, и решено жаловаться французскому двору на Кастера. В апреле Бестужев писал императрице, что в Польше довольны дисциплиною и исправным платежом проходившего через нее репнинского корпуса; но так как на будущем сейме без крику и шуму против прохода русских войск не обойдется, то надобно прислать к сейму несколько денег и мягкой рухляди для успокоения этих криков. Надобно было ожидать на сейме поднятия и другого неприятного для России вопроса – курляндского, предвиделось, что поляки потребуют или освобождения Бирона и его сыновей, или объявления герцогского престола праздным и выборов на него; Мориц Саксонский, прославившийся как маршал французской службы, не переставал называться герцогом курляндским, и носились слухи, что он сам приедет в Польшу к сейму. По всем этим обстоятельствам Бестужев представлял своему двору необходимость разорвать сейм, а для этого надобились деньги и мягкая рухлядь. По этому представлению переслано было в Польшу для сейма 11000 рублей деньгами.
Касательно Саксонии Бестужев должен был хлопотать о том, чтоб она приступила к союзу, заключенному между Россиею и Австриею. На предложение со стороны Бестужева Брюль отвечал, что это дело великой важности, ибо Саксония, будучи окружена владениями короля прусского, первая подвергается его нападению, как в последнюю войну и случилось: за исполнение обязательств Варшавского трактата король подвергся великой опасности, почти вся Саксония была завоевана и разорена и не получила ниоткуда ни помощи, ни вознаграждения за понесенные убытки. Поэтому желательно, чтоб здешнему двору были показаны безопасность и выгоды; а без того его величество приступление к договору не находит согласным со своими интересами; наконец, между Россиею, Австриею и Саксониею и без того существуют союзные договоры.
Осенью начался сейм в Варшаве. 8 октября Бестужев писал: «Двор продолжает желать, чтоб сейм состоялся; князья Чарторыйские в угодность королю, особенно же для показания своей силы в Речи Посполитой, стараются об этом всеми средствами и почти никого противников себе не находят. Правда, воевода сендомирский Тарло, как богатейший здесь после князей Чарторыйских, мог бы им противиться, но его, как человека корыстолюбивого, король каким-нибудь обещанием может задобрить, а великий гетман коронный (Потоцкий) так устарел и одряхлел, что уже и себя почти не помнит, так что теперь сейм состоит совершенно из креатур Чарторыйских. Великий гетман литовский князь Радзивил просил меня, чтоб я вашему имп. величеству засвидетельствовал о его доброжелательности и усердии к русским интересам, и притом ко мне отзывался, что хотя он с князьями Чарторыйскими и в дружбе находится, однако неохотно может видеть, чтоб они приходили в большую силу; и я сам усматриваю, что у главных магнатов к фамилии Чарторыйских большая зависть, да и правда, эти князья вместе с воеводою мазовецким Понятовским многих из них умнее и в делах гораздо поворотливее и расторопнее».
9 октября после обеда королевского, к которому был приглашен и Бестужев, Брюль подошел к нему и как бы шутя сказал, что король желает, совершения сейма, а слышно, что он, Бестужев, хочет противного и не имеет ли он об этом указа императрицы? Бестужев признается, что был смущен этими словами, но принял также шутливый тон и отвечал, что указа нет и никому никаких внушений о том не сделано. После этого Брюль попросил его приехать к нему на другой день, чтоб переговорить серьезнее и обстоятельнее. На другой день Брюль начал разговор просьбою, чтоб Бестужев прямо и откровенно объявил, есть ли у него указ императрицы разорвать сейм, ибо если так, то король и трудов своих употреблять не станет, зная, что императрица по своему кредиту в Польше и посредством денег не допустит сейма до окончания, хотя король и желал бы противного единственно для чести и для утверждения своего кредита в Польше, что императрице может быть не только не противно, но по общим интересам и приятно, и если б она прислала указ о разорвании сейма, то это было бы поступлено несоюзнически.
Бестужев отвечал, что точного указа не имеет, но, слыша, что в Посольской избе раздаются крики о курляндском деле, за которым сюда и депутаты присланы, считает своею обязанностью и без указа разорвать сейм, чтоб не было внесено в конституцию чего-нибудь противного русским интересам; впрочем, до сих пор не сделал еще ни одного шага и ни с кем из своих друзей не изъяснялся, и потому подозрения Брюля напрасны. Что же касается до желания короля о завершении сейма, то он до сих пор ничего об этом не знал, а теперь, когда ему королевское намерение объявляется, то оно императрице нимало противно быть не может, лишь бы только в конституцию не было внесено ничего противного русским интересам. Разговор кончился тем, что Брюль дал слово не вносить ничего о курляндском деле в конституцию, лишь бы императрица со временем покончила это дело, и Бестужев известил свой двор, что в сеймовые дела больше мешаться не будет, вследствие чего 10000 рублей останутся в казне. Сейм расползся и без русских денег. Говорили, что причиною этому были французские и прусские интриги, но Бестужев писал, что чужих интриг не было, а были интриги завистников фамилии князей Чарторыйских, усиления которых не хотят допустить. Литовский гетман Радзивил, приехавши к Бестужеву проститься, просил его от имени всей Литвы уверить императрицу в истинной преданности и в том, что Литва в случае какого-нибудь происшествия полагает надежду на помощь России, при этом жаловался он на Чарторыйских, что поступают деспотически, что сношения двора с домом Чарторыйских во время последнего сейма клонились к тому, чтоб на сеймах вести решение дел по большинству голосов, a liberum veto уничтожить. «От этого, – говорил Радзивил, – вольность республики была бы истреблена вконец, и я скорее дам себя на части изрубить, чем позволю на введение такой вредной новости». Бестужев извещал, что этот замысел Чарторыйских увеличил число их врагов, поднял против них Радзивилов, Огинских, Сапег, Сангушек, Потоцких, Тарлов; великий канцлер коронный Малаховский показывает им только вид приязни, негодуя, что двор доверяет им более, чем кому-либо другому. Бестужев внушал своему двору, что введение большинства голосов на польских сеймах будет вредно русским интересам.









