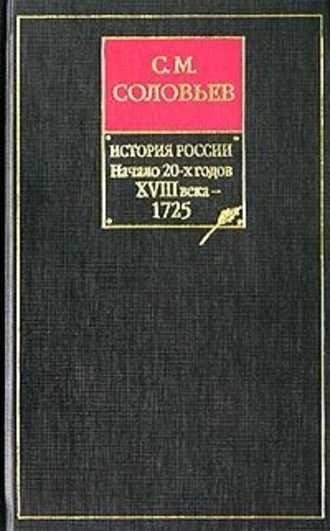 полная версия
полная версияИстория России с древнейших времен. Книга IX. Начало 20-х годов XVIII века – 1725
На другой же день, 20 января, Петр получил ответ от сына: «Милостивейший государь батюшка! Письмо ваше я получил, на которое больше писать за болезнию своею не могу. Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения. Раб ваш и непотребный сын Алексей».
И последнее средство не подействовало! И монастырь не испугал! Сын торжествовал над отцом. Петру оставалось или исполнить угрозу, постричь сына, чего ему вовсе не хотелось, или уступить, откладывать тяжкое дело. Петр, естественно, выбрал последнее. Сын готовился в монастырь. У него была любовница Афросинья Федорова, крепостная Никифора Вяземского. Царевич, будучи болен в это время, дал ей два письма: одно – к старому духовнику Якову, другое – к Ивану Кикину, говоря: «Когда я умру, отдай те письма: они тебе денег дадут». В письмах говорилось, что царевич идет в монастырь по принуждению и чтоб протопоп и Кикин дали вручительнице известную сумму из хранившихся у них царевичевых денег. Сын сбирался в монастырь; отец сбирался за границу в долгий поход. Перед отъездом Петр пришел к больному сыну проститься и спросил о резолюции на известное дело; царевич отвечал, что не может быть наследником по слабости и желает в монастырь. «Одумайся, не спеши, – говорил ему отец, – напиши мне потом, какую возьмешь резолюцию».
Слава богу, уехал без резолюции! Дело отложилось вдаль, а там что бог даст! Кикин едет в Карлсбад провожать царевну Марью Алексеевну и говорит царевичу: «Я тебе место какое-нибудь сыщу». Можно ждать, что напишет Кикин, какое сыщет место; отец живет за границею и не торопит. 18 июня 1716 года умерла тетка Алексея царевна Наталья Алексеевна, имевшая важное значение в жизни царевича; после заточения матери он перешел к ней на руки; ей приписывали и размолвку Петра с первой женою; она внимательно следила, чтоб Алексей не сносился с матерью, и доносила брату; разумеется, что Лопухины ненавидели ее за это. Когда царевна умерла, то один из приближенных к царевичу сказал ему: «Ведаешь ли ты, что все на тебя худое было от нее? Я слышал от Аврама (Лопухина)». Но из других углов были другие вести. Голландский резидент Деби доносил своему правительству: «Особы знатные и достойные веры говорили мне, что покойная великая княжна Наталия, умирая, сказала царевичу Алексею: „Пока я была жива, я удерживала брата от враждебных намерений против тебя; но теперь умираю, и время тебе самому о себе промыслить; лучше всего при первом случае отдайся под покровительство императора“».
И Кикин давно толковал о бегстве за границу; но как это сделать? Был случай во время поездки в Карлсбад, но пропущен; теперь под каким предлогом выехать из России?
Сам отец дает возможность выехать. 26 августа он пишет сыну из Копенгагена: «Мой сын! Письма твои два получил, в которых только о здоровье пишешь; чего для сим письмом вам напоминаю. Понеже когда прощался я с тобою и спрашивал тебя о резолюции твоей на известное дело, на что ты всегда одно говорил, что к наследству быть не можешь за слабостию своею и что в монастырь удобнее желаешь; но я тогда тебе говорил, чтоб еще ты подумал о том гораздо и писал ко мне, какую возьмешь резолюцию, чего ждал семь месяцев; но по ся поры ничего о том не пишешь. Того для ныне (понеже время довольно на размышление имел), по получении сего письма, немедленно резолюцию возьми: или первое, или другое. И буде первое возьмешь, то более недели не мешкай, поезжай сюда, ибо еще можешь к действам поспеть. Буде же другое возьмешь, то отпиши, куды и в которое время и день (дабы я покой имел в моей совести, чего от тебя ожидать могу). А сего доносителя пришли с окончанием; буде по первому, то когда выедешь из Петербурга; буде же другое, то когда совершишь. О чем паки подтверждаем, чтобы сие конечно учинено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своем неплодии».
Медлить нельзя было более; сам отец отворил дорогу из России. Царевич был на своей мызе, когда получил отцовское письмо; он немедленно поехал в Петербург и объявил Меншикову о резолюции своей ехать в поход по указу государя и что поедет прежде данного срока. «Когда приду проститься с братцем и сестрицами, тогда тотчас и поеду», – говорил Алексей светлейшему князю. Камердинеру своему, Ивану Большому Афанасьеву, царевич велел приготовляться в дорогу, как ездили прежде в немецкие края, а сам стал плакать. «Как мне оставить Афросинью и где ей быть? Не скажешь ли кому, что я буду говорить? – спросил царевич Афанасьева, и, когда тот обещался молчать, Алексей начал: – Я Афросинью с собою беру до Риги. Я не к батюшке поеду, поеду я к цесарю или в Рим». Афанасьев сказал на это: «Воля твоя, государь, только я тебе не советник». «Для чего?» – спросил царевич. «Того ради, – отвечал Афанасьев, – когда это тебе удастся, то хорошо; а когда не удастся, тогда ты же на меня будешь гневаться». «Однако ты молчи про это, никому не сказывай! – говорил царевич. – Только у меня про это ты знаешь да Кикин; он для меня в Вену проведывать поехал, где мне лучше быть. Жаль мне, что я с ним не увижусь; авось на дороге увижусь». Царевич проговорился и другому из своих домашних, Федору Дубровскому. «Едешь ли к отцу, поезжай для бога!» – говорил ему Дубровский. «Я поеду, бог знает, к нему или в другую сторону», – отвечал Алексей. Дубровский сказал на это: «Многие ваши братья бегством спасалися; я чаю, тебя сродники не оставят». Тут Дубровский стал просить у царевича денег 500 рублей для отсылки матери в Суздаль, Алексей дал деньги. Дубровский вспомнил и о дяде царевича по матери Авраме Лопухине: «Чаю, отец Аврама, дядю твоего, распытает». Царевич сказал на это: «За что, когда он не ведает? Когда уже подлинно будете известны, что я отлучился, в то время можешь и Авраму сказать, буде хочешь; а ныне не сказывай никому!» Перед отъездом царевич заехал в Сенат, чтоб проститься с сенаторами; при этом он сказал на ухо князю Якову Долгорукому: «Пожалуй, меня не оставь!» «Всегда рад, – отвечал Долгорукий, – только больше не говори: другие смотрят на нас». Сенат выдал царевичу на дорогу 2000 рублей да князь Меншиков тысячу червонных.
26 сентября 1716 года Алексей выехал из Петербурга на Ригу; с ним были Афросинья, брат ее Иван Федоров и трое слуг. Царевичу было мало тех денег, какие он получил в Петербурге на дорогу в Копенгаген, и потому в Риге он занял у обер-комиссара Исаева 5000 червонных и 2000 мелкими деньгами.
Из Риги Алексей отправился на Либаву; не доезжая четырех миль до этого города, он встретил тетку свою царевну Марью Алексеевну, которая возвращалась с Карлсбадских вод. Царевич остановился, сел в карету к тетке и имел с нею любопытный разговор. «Еду к батюшке», – объявил царевич. «Хорошо, – отвечала царевна, – надобно отцу угождать, то и богу приятно; что б прибыли было, когда б ты в монастырь пошел?» «Уж не знаю, – сказал царевич, – буду угоден или нет; уж я себя чуть знаю от горести, я бы рад куды скрыться». При этих словах он заплакал. «Куды тебе от отца уйтить? Везде тебя найдут», – сказала тетка. Царевич остановился и не сказал ни слова о деле, которое лежало у него на сердце. Тут царевна начала говорить о своем деле, которое лежало у нее на сердце. Дочь Милославской, она осторожным поведением своим умела до сих пор предохранить себя от братней опалы, умела скрывать свои чувства, но тут не считала нужным скрывать; она не могла переносить новой женитьбы брата, считала первый брак единственно честным и законным, стояла за Евдокию, как, наоборот, дочь Нарышкиной, царевна Наталья, была против Евдокии. Царевна Марья, естественно, была за Алексея; но ее оскорбляло в нем равнодушие к матери, эгоизм, постыдная трусость, какие он обнаруживал в этом случае; тетка была мужественнее племянника, она стала упрекать Алексея: «Забыл ты мать, не пишешь и не посылаешь к ней ничего. Послал ли ты после того, как чрез меня была посылка?» «Послал», – отвечал царевич, имея в виду 500 рублей, отданные Дубровскому. Царевна принудила племянника написать матери маленькое письмецо. «Я писать опасаюсь», – говорил Алексей. «А что? – возражала царевна. – Хотя б тебе и пострадать, так бы нет ничего; ведь за мать, не за иного кого!» «Что в том прибыли, – говорил Алексей, – что мне беда будет, а ей пользы из того не будет ничего». В этих словах высказался весь человек, один из тех людей, которые способны приводить резоны, что ни для кого нет пользы от исполнения обязанности, тогда как другие, сильные нравственно люди исполняют обязанность не думая, считая бесчестным ставить вопрос: будет ли от этого какая кому польза? «Жива матушка или нет?» – спросил нежный сын. «Жива, – отвечала тетка, – и было откровение ей самой и иным, что отец твой возьмет ее к себе, и дети будут, а таким образом: отец твой будет болен, и во время болезни его будет некакое смятение, и придет отец в Троицкий монастырь на Сергиеву память, и тут мать твоя будет же, и отец исцелеет от болезни и возьмет ее к себе, и смятение утишится. И Петербург не устоит за нами: быть ему пусту, многие о сем говорят». От Евдокии разговор перешел, естественно, к Екатерине. «У нас, – говорила царевна, – осуждают отца твоего, что он мясо ест в посты; то нет ничего: то пуще, что он мать твою покинул. У нас архиереи – дураки: это ни во что ставят и поминают эту царицу особливо; Иов новгородский, труся, сие делает; иноземцы (т.е. малороссияне) знают лучше божественное писание: Дмитрий да Ефрем и рязанский, также и князь Федор Юрьевич (Ромодановский) при объявлении царицы (т.е. когда Екатерина была объявлена царицею) не благо сие приняли; к тебе они склонны». Когда и прежде царевич начинал хвалиться добрым расположением к себе царицы Екатерины, то царевна Марья возражала: «Что хвалишься? Ведь она не родная мать, где ей так тебе добра хотеть?»
«Повидайся с Кикиным; он желает тебя видеть», – сказала, между прочим, царевна племяннику. Это свидание было в Либаве. «Нашел ли ты мне место какое?» – спросил царевич Кикина. «Нашел, поезжай в Вену к цесарю: там не выдадут. Сказывал мне Веселовский, что его спрашивают при дворе, за что тебя лишают наследства? И я ему сказал: „Ведаешь ты сам, что его не любят, и, чаю, для того больше, и не для чего иного“. И как я уверился, что он, Веселовский, в отечество не намерен возвратиться, того ради стал я с ним говорить смелее и спросил его про тебя: „Как он сюда приедет, примут ли его?“ И он мне сказал: „Я поговорю с вице-канцлером Шёнборном, он ко мне добр“. И по нескольком времени сказал, что он с Шёнборном говорил, и он цесаря спрашивал в разговоре, и цесарь говорил, что он примет его как своего сына и, чаю, даст тысячи по три гульденов на месяц». Царевич спросил Кикина: «Зачем ты в Вену ездил, для меня или для чего иного?» «Мне, – отвечал Кикин, – иного дела не было, кроме тебя. А спросился я у царевны Марьи Алексеевны побывать в Вене для своих нужд: и она мне приказала уговаривать Прозоровского, чтоб возвратился. Если отец к тебе пришлет кого-нибудь уговаривать тебя, то не езди: он тебе голову отсечет публично». Царевич спросил: «Когда ко мне будут присланные в Гданск или Королевец, что мне делать?» Кикин отвечал: «Уйди ночью один пли возьми детину одного, а багаж и людей брось; а если два будут присланы, то притвори себе болезнь, и из тех одного пошли наперед, а от другого уйди». «Когда бы письма от батюшки не было, как бы мне уехать?» – говорил царевич. Кикин отвечал: «Я хотел таким образом сделать, чтоб ты сказал, что сам едешь к отцу, и так бы ушел. Отец тебя не пострижет ныне, хотя б ты хотел; ему князь Василий (Владимирович Долгорукий) приговорил, чтоб тебя при себе держать неотступно и с собою возить всюду, чтоб ты от волокиты умер, понеже ты труда не понесешь. И отец сказал: „Хорошо так“. И рассуждал ему князь Василий, что в чернечестве тебе покой будет и можешь ты долго жить. И по сему слову я дивлюсь, что давно тебя не взяли; и ныне тебя зовут для того, и тебе, кроме побегу, спастись ничем иным нельзя».
Царевич сказал Кикину о своем разговоре с камердинером Иваном Афанасьевым. Это очень обеспокоило Кикина, тем более что Афанасьев знал об его участии в деле. Чтоб не иметь такого опасного свидетеля в Петербурге, Кикин стал просить царевича написать Афанасьеву, чтоб ехал к нему. «Когда Ивана в Питербурхе не будет, – говорил он, – то неоткуда пронестися сему; кроме нас двоих, с ним никто не ведает; а меня в Питербурхе при тебе не было, то на меня и подозрения не будет; а если Иван в Питербурхе будет, то небезопасно, чтоб не промолвился с кем». «Думаю, что Иван не поедет», – сказал на это царевич. Тогда Кикин придумал другое средство: «Ты напиши другое письмо, будто у тебя с ним речей никаких о сем не было, а бежать ты вздумал в пути и чтоб он, взяв вещи алмазные, ехал; а я велю ему то письмо подать князю Меншикову, будто б он твою тайну открыл, то им розыскивать не будут». Царевич написал письмо: «Иван Афанасьевич! По получении сего письма поезжай ко мне, понеже я взял свое намерение, что где ни жить, а к вам не возвратиться (для немилости вышних наших), о которой еще к прежним в подтверждение в Риге получил письмо из Копенгагена. А что не взял я вас с собою, понеже нималого к сему намерения не имел. А ехать тебе надлежит в Гамбурх и там отсведомиться о мне. Я вам истину пишу, что не имел намерения; когда б имел, то бы тебя взял силою; хотел взять и учителя, только он сам меня просил, чтоб остаться». Кикин уговорил царевича написать и другое письмо к князю Василию Владимировичу Долгорукому с благодарностью за любовь: «Если на меня суспет (подозрение) о твоем побеге будет, то я объявлю письмо твое, к князю Василью писанное, и скажу: „Знать, он с ним советовал, что его благодарит; я сие письмо перенял“». Мы видели, каким образом Кикин возбудил в царевиче раздражение против князя Василья, рассказавши, как Долгорукий советовал царю держать сына при себе, чтоб его уморить волокитою. Царевич написал письмо: «Князь Василий Владимирович! Благодарствую за все ваши ко мне благодеяния, за что при моем случае должен отслужить вам». Царевич рассказал Кикину о своем разговоре с Меншиковым при отъезде об Афросинье. Меншиков спрашивал его: «Где ты ее оставляешь?» «Возьму до Риги и потом отпущу в Петербург», – отвечал Алексей. «Возьми ее лучше с собою», – сказал светлейший. Этот рассказ возбудил в Кикине мысль: нельзя ли кинуть суспет и на Меншикова? «Напиши, – говорил он царевичу, – письмо к Меншикову, чтоб Ивану Афанасьеву дал подвод и отправил бы его, да благодари, что присоветовал взять девку с собою: может быть, что князь покажет твое письмо отцу и он будет о нем иметь суспет».
Устроивши все таким образом, Алексей расстался с Кикиным. Кикин приехал в Петербург с жалобами на царевича: действительно ли он имел причину жаловаться или выдумал ее? По приезде в Петербург Кикин послал за Иваном Афанасьевым и начал разговор вопросом: «Есть ли у тебя с дороги от царевича письмо?» «Нет», – отвечал тот. «Я с ним виделся, – продолжал Кикин, – и на меня царевич что-то очень сердит: сказал, будто я с Долгоруковым его продаю, а каким образом – о том ничего не сказал. Поговорил немного со мною и скоро от меня поехал; только сказал, что к тебе писано, чтоб ты за ним поехал. Приказал же тебе сказать, чтоб ты то письмо с собою взял, которое к нему от отца пришло, и велел тебе ехать осторожно, чтобы ты не попался навстречу царскому величеству. Буде послышишь, что государь едет, в те поры отъезжай в сторону и ожидай, как проедет. Не слыхал ли ты, Иван, от царевича, за что он на меня сердит, что в дороге со мною сердито говорил? Сему я очень удивляюсь; или не слыхал ли каких обо мне разговоров?» «Не слыхал», – отвечал Афанасьев. Разумеется Кикин мог нарочно говорить Афанасьеву, что царевич сердит на него, Кикина; если Афанасьева возьмут и станут спрашивать, то показание о неприязненных отношениях между царевичем и Кикиным может быть полезно последнему; мы увидим, как впоследствии Кикин действительно настаивал на этих неприязненных отношениях для своего оправдания. Но с другой стороны, могли быть действительно причины неудовольствия, заключавшиеся кроме подозрительного поведения Кикина и в самом характере Алексея: он бежит из России за границу, чтоб не выбирать между монастырем и невыносимым для него положением при отце. Но бежать разве легкое дело? Как бежать, куда? если скоро узнают и поймают? если и не поймают, то как примут на чужой стороне чужие люди? как жить? Все эти вопросы должны были сильно тревожить и раздражать Алексея. Встречается человек, присоветовавший бегство, и Алексей срывает на нем свое сердце, тем более что Кикин, указывая, куда ехать, не сказал ничего верного: хорошо примут, не выдадут, будут давать деньги на содержание, но это все одни предположения Кикина и Веселовского; ничто не приготовлено, трудное и опасное дело ничем не облегчено, а труда, физического труда более всего боялся Алексей; ему говорят, что отец вызывает его к себе, чтобы заморить волокитою, а теперь впереди разве не волокита и где ей конец, что из всего этого будет?
Через несколько дней после разговора с Кикиным Афанасьев получил письмо от царевича, где тот писал, чтобы камердинер ехал за ним немедленно и нагонял в Данциге; Афанасьев объявил письмо Меншикову, и тот отпустил его, дав паспорт и подорожную.
Опасный человек уехал. Кикин мог спокойнее дожидаться развязки. Но Афанасьев скоро возвратился: он нигде не мог сыскать царевича.
Царевич внезапно уехал из Петербурга; говорили, что поехал к отцу; но вот уже прошло много времени, и не слышно, приехал ли он к царю и что при нем делает. Это сильно беспокоило близких людей. Московский духовник Яков Игнатьев писал письмо за письмом. «Молю тя, премилостивого моего, аще ли не подлежит тайне, и достоин ничтожность моя ведения, помилуй, уведоми мя, чесого ради скоропоятое от Питербурха отшествие твое, и все ли во здравии и во благополучности, и не есть ли якова гневоизлияния на тя, и к какому делу определенность тебе, и в радости ли и в веселии, дабы и нам, ничтожным, сицевое слышав, яже о благородии твоем, по многу порадованным быти и веселитися».
В беспокойстве Яков Игнатьев говорит другому близкому человеку, ключарю Ивану Афанасьеву: «Царевич государь говаривал со мною: „Батюшка велел мне либо жениться, либо пострищися, а мне пострищися не хочется, также и жениться не хочется, потому что батюшка изволит меня женить паки на иноземке, и я не знаю, что делать? Не знаю, нищету восприяти, да с нищими скрытися до времени, не знаю, отъити куда в монастырь и быть со дьячками или отъехать в такое царство, где приходящих приемлют и никому не выдают“. И я, – продолжал духовник, – теперь не ведаю, где государь царевич обретается». В ноябре духовник получил странное письмо. На одной стороне рукою Никифора Вяземского было написано: «О нас если изволишь и о нашем бытии ведать, и мы при милости государя царевича, слава богу, живы и живем в Нарве, а ожидаем по вся дни самодержавнейшего государя нашего». На обороте письма написано было рукою царевича: «Батюшко, изволь сказать всем тем, к которым мои грамотки есть в пакете на твое имя, Ивану Афанасьевичу, чтобы ко мне больше не писали, и сам не изволь писать ко мне, для того что сам изволишь ведать; помолись, чтоб поскорее совершилось, а чаю, что не умедлится; пожалуй, сие письмо, кроме себя да ключаря, не изволь казать никому и ему прикажи, чтоб никому не сказывал, а иным изволь приказать словом в разговоре, а не указом, будто от себя гаданием, и чтоб сие было тайно».
Беспокоились в Москве; сильно беспокоились и за границей. 21 октября Петр получил от курьера известие, что царевич едет к нему, и после того никакого слуха. 4 декабря царица Екатерина писала Меншикову из Шверина: «О государе царевиче Алексее Петровиче никакой ведомости по се время не имеем, где его высочество ныне обретается, и о сем мы немало сожалеем». От 10 декабря другое письмо: «С немалым удивлением принуждена вашей светлости объявить, что о его высочестве государе царевиче Алексее Петровиче ни малой ведомости по се время не имеем, где его высочество ныне обретается, и о сем мы немало сожалеем». Екатерина жалела; Петр действовал: дал приказание стоявшему в Мекленбурге с войском генералу Вейде разыскивать; резиденту своему в Вене Абраму Веселовскому поручил тайно разведывать о месте пребывания царевича и дал об этом знать императору Карлу VI собственноручным письмом, прося, что если Алексей находится в императорских владениях, то приказать отправить его с Веселовским, придав для безопасности несколько офицеров, «дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли». Поручение, данное Веселовскому, и письмо к императору доказывают, что Петр догадывался, куда скрылся сын.
Распоряжения были сделаны в конце 1716 года; в начале 1717 начали приходить указания на следы беглеца; следы сходились к Вене и здесь исчезали.
По рассказу известного нам императорского вице-канцлера графа Шёнборна, царевич явился к нему поздно вечером 10 ноября 1716 года и стал говорить ему с сильными жестикуляциями, с ужасом озираясь во все стороны и бегая из угла в угол: «Я прихожу сюда просить цесаря, своего свояка, о протекции, чтоб он спас мне жизнь: меня хотят погубить; хотят у меня и у моих бедных детей отнять корону. Цесарь должен спасти мою жизнь, обеспечить мне и моим детям сукцессию; отец хочет отнять у меня жизнь и корону, а я ни в чем не виноват, ни в чем не прогневил отца, не делал ему зла; если я слабый человек, то Меншиков меня так воспитал, пьянством расстроили мое здоровье; теперь отец говорит, что я не гожусь ни к войне, ни к управлению, но у меня довольно ума для управления. Один бог – владыка и раздает наследства, а меня хотят постричь и в монастырь запрятать, чтобы лишить жизни и сукцессии; но я не хочу в монастырь, цесарь должен спасти мне жизнь». Тут Алексей в изнеможении бросился на стул и закричал: «Ведите меня к цесарю!» Потом спросил пива; ему дали мозельского вина, и между тем Шёнборн старался успокоить его, уверял, что он в совершенной безопасности и что немедленно представить его цесарю нельзя, поздно, да и прежде цесарь должен обстоятельно узнать, что понудило царевича решиться на такой поступок. Алексей начал опять: «Я ничего не сделал отцу, всегда был ему послушен, ни во что не вмешивался, я ослабел духом от преследования и потому, что меня хотели запоить до смерти; отец был добр ко мне; когда у меня пошли дети и жена умерла, то все пошло дурно, особенно когда явилась новая царица и родила сына; она с князем Меншиковым постоянно раздражала отца против меня, оба люди злые, безбожные, бессовестные; я против отца ни в чем не виноват, люблю и уважаю его по заповедям, но не хочу постричься и отнять права у бедных детей моих, а царица и Меншиков хотят меня уморить или в монастырь запрятать. Никогда у меня не было охоты к солдатству; но за несколько лет перед этим отец поручил мне управление, и все шло хорошо, отец был доволен; но когда пошли у меня дети, жена умерла, а у царицы сын родился, то захотели меня замучить до смерти или запоить; я спокойно сидел дома, но год тому назад принужден был отцом отказаться от наследства и жить приватно или в монастырь идти; напоследок приехал курьер с приказом или к отцу ехать, или немедленно постричься в монахи: исполнить первое – погубить себя разными мучениями и пьянством, второе – погубить и тело и душу; потом мне дали знать, чтоб я берегся отцовского гнева и что приверженцы царицы и Меншикова хотят отравить меня из страха, потому что отец становится слаб здоровьем. Поэтому я притворился, что еду к отцу, и добрые приятели присоветовали мне ехать к цесарю, который мне свояк и великий, великодушный государь, которого отец уважает; цесарь окажет мне покровительство; к французам и к шведам я не мог идти, потому что это враги моего отца, которого я не хотел гневить. Говорят, будто я дурно обходился с моею женой, сестрою императрицы; но богу известно, что не я дурно с нею обходился, а отец и царица, которые хотели заставить ее служить себе как простую горничную, но она по своей едукации к этому не привыкла и сильно печалилась; к тому же заставляли меня и ее терпеть недостаток и особенно стали дурно обходиться, когда у ней пошли дети. Хочу к цесарю, цесарь не оставит меня и моих детей, не выдаст меня отцу, потому что отец окружен злыми людьми и сам очень жесток, не ценит человеческой крови, думает, что, как бог, имеет право жизни и смерти; он уже много пролил невинной крови, часто сам налагал руку на несчастных обвиненных, он чрезвычайно гневлив и мстителен, не щадит никого, и если цесарь выдаст меня отцу, то это все равно что сам меня казнит; да если бы и отец меня пощадил, то мачеха и Меншиков не успокоятся до тех пор, пока не замучат до смерти или не отравят».
Алексей хотел непременно представиться императору и императрице; но Шёнборн внушал, что гораздо выгоднее для него скрыть свое пребывание в императорских владениях под глубокою тайной. Алексей согласился, и 12 ноября был перевезен из Вены в ближнее местечко – Вейербург. Сюда в начале декабря цесарь прислал одного из своих министров разузнать обстоятельнее, в чем дело, чтоб можно было действовать с уверенностью, узнать, не предпринимал ли чего-нибудь царевич против отца и в каком положении его дети. Царевич повторял то же, что уже прежде говорил графу Шёнборну; клялся, что не замышлял против отца никакого возмущения, хотя сделать это было легко, потому что русские любят его, царевича, и ненавидят царя за худородную царицу и злых любимцев, за то, что он отменил древние добрые обычаи и ввел дурные, за то, что не щадит их денег и крови, за то, что он тиран и враг своего народа; надобно опасаться, чтобы за все это подданные не умертвили его и бог его не наказал; царевич распространился в подробностях об отцовой армии, об его министрах и боярах, говоря, что большая часть их, особенно Меншиков и лейб-медик, – льстецы и злые люди, которые вовлекают царя во множество дурных поступков, чему служит примером мечта об императорском титуле, которая, кроме неприятности, не даст отцу ничего существенного; отец по природе добр и справедлив, но легко воспламеняется гневом и становится свиреп; но он, царевич, не хочет никогда ничего предпринимать против отца, любит его и уважает, только не хочет к нему возвращаться просит цесаря не выдавать его и надеется, что пощадят невинную кровь его и бедных детей его. Начав говорить о детях, царевич пришел в сильное волнение и заплакал; он объявил, что.насчет детей не оставил никакого распоряжения, надеется на бога, на доброе сердце отца своего и на гувернантку мадам Рогэн, поручает их также цесарю и цесаревне.









