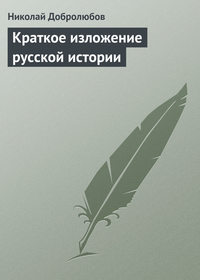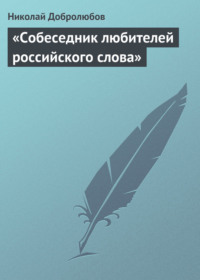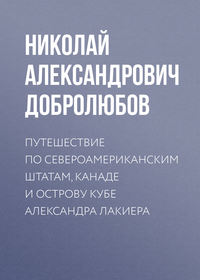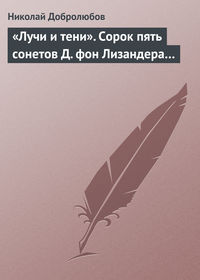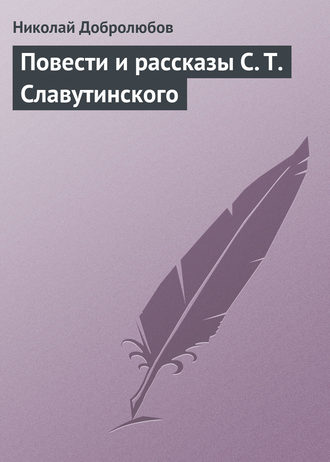 полная версия
полная версияПовести и рассказы С. Т. Славутинского
Во всем этом чрезвычайно много правды, и взгляд автора на основу характера этого лица совершенно верен. Это одна из сильных русских натур, хорошая в основе, но безмерно жадная до жизни и между тем не имеющая средств удовлетворить своей жадности. Обстоятельства толкнули его в самый омут разврата, прежде чем он еще умел понять, где добро и где зло, и он не пассивно погрузился, но деятельно принялся нырять в этом омуте. Но когда он утомился, силы стало поменьше, дела пошли потише, да тут еще и жена-то сгибла по его милости, – ему стало нехорошо на душе, и пришло время оглядки на себя, пришла тоска по напрасно растраченным юным силам, по безумно загубленной жизни. Но, разумеется, он не только не хотел в этом признаться, он даже не понимал истинного свойства и причины своей хандры, оттого и старался топить ее в разгуле и пьянстве. Все это очень верно соображено и замечено автором, и нам кажется, что именно такие характеры, с такими результатами гораздо более общи и близки русской жизни, нежели, например, хотя бы питерщики г. Писемского[10]. Но в то же время мы должны заметить, что у г. Славутинского сделан лишь намек на развитие этого характера; но не проведен он полно и последовательно, не сделан художнически цельно; оттого-то, разумеется, большинство читателей пропускают без внимания это лицо, не заметив даже основы этого характера. Между тем в художнической обработке и при таком знании дела, какое видим мы у г. Славутинского, Андрей Нахрапов мог бы составить особенный тип в нашей литературе.
Но, обращая внимание на художественный недостаток в обрисовке характера, мы должны указать и на жизненную правду в постановке этого лица. Автор не забыл влияния среды, в которой Нахрапов родился и вырос, и вы, сквозь все гадости, делаемые этим героем, видите, однако, что сам по себе он мог бы быть и не таков, но все окружающее его было таково, что для успеха в нем неглупому человеку только и надо было – совести не иметь. И хоть слабо развито это в повести, но все же заметно в ней участие другой силы, которая тянет Нахрапова на постыдный путь. Так, между прочим, является мимоходом Нил Александрович, барин-откупщик, с изящною важностью, с большим значением в аристократическом губернском кругу, и как ни ужасен Нахрапов, но читатель инстинктом чувствует, что этот грубый злодей никогда не может дойти до такого гнилого безобразия, как этот Нил Александрович. Жаль только, что в повести и это опять-таки не развито с тою живою обстоятельностью, которая имеет такое значение в произведениях наших писателей-художников. Вообще действие в повестях г. Славутинского идет чрезвычайно быстро; он идет прямо вперед, не смотря по сторонам и не останавливаясь на второстепенных обстоятельствах. Только заключительные сцены, особенно трагического свойства, обрисовываются у него полнее и обстоятельнее. Так, в «Читальщице» остановился он над изображением последних дней раскаявшегося Нахрапова. Нахрапов, пьяный, в дороге убил Марфу, совершенно ненамеренно; чтоб скрыть преступление, он, с помощью кучера и сопровождавшего его поверенного по откупу, свидетелей дела, зарыл Марфу подле дороги в леску, и сам же, по возвращении в город, поднял дело о ее безвестной пропаже. Полиция, знавшая и Нахрапова и Марфу, употребила все усилия к розысканию, но ничего не могла узнать; через полгода, весною, когда найдено было тело Марфы, опять было следствие, и опять безуспешное. Но на этот раз стали ходить какие-то слухи, неблагоприятные Нахрапову; а еще год спустя один из служителей откупа, обиженный Нахраповым, нашел средство опять поднять дело, и началось третье следствие, которое усилило прежние подозрения. Два года тянулось это дело; Нахрапов почти разорился на ведение его, и, наконец-таки, кончалось оно в его пользу, как вдруг он, истомленный и отчаянный, решился сам во всем признаться. Признание это было так неожиданно для всех, что его могли объяснить только расстройством рассудка Нахрапова, и Нил Александрович даже настоял, чтоб его подвергли освидетельствованию в присутствии губернских властей. При этом свидетельстве Нахрапов выразил изумление, каким образом его искреннее признание могло заставить думать, что он сошел с ума, и прибавил, что ведь не всякий же способен до конца жизни гневить бога нераскаянно. Этими ответами остался очень недоволен губернатор и приказал написать в протоколе, что Нахрапов признан «совершенно» неповрежденным в уме, и слово «совершенно» подчеркнул собственноручно.
Тут-то и посадили Нахрапова в острог, и тут начинаются его сцены с дочерью. Дочь его, Таня, росла все время в доме старухи Медынской, пользовалась ее ласками, но, к счастию, была удалена от влияния приживалок и дворни, находясь под особенным попечением старика учителя Сенеки. Это был добрый и честный человек, скромный и убогий, но неутомимый и бескорыстный деятель в своей среде, насколько сил его хватало… Он рассуждал: «Коли уж я живу в мире, так всякое дело мирское – мое дело. Хорошее оно – надо его поддержать, не выпускать его из глаз; дурное – надо попробовать, не уступит ли оно место хорошему». Разумеется, действовать приходилось ему в очень узенькой сфере, и средств у него не было, и потому пробы его против дурных дел ограничивались одними увещаниями; а много ли же можно сделать увещанием? Но на людей простых и юных он мог действовать благотворно, и под его-то влиянием развилась Таня. Сенека убедил Медынскую, что Тане не нужно никакого особенного образования, что он один может всему ее выучить, и с ранних лет стал он ее готовить на подвиг жизни. Будучи отчасти мистиком, он толковал ей о высокой цели и особенном назначении ее, приготовлял ее к самоотвержению и труду на пользу общую. И Таня действительно готовилась на труд и горе и привыкла считать чем-то должным и неизбежным все тяжелые и неприятные происшествия своей жизни. А жизнь ее, разумеется, протекала не весело в доме Медынской: сама старуха была уже дряхла и почти ничего не понимала; а разные приживалки и прислуга смотрели на Таню с пренебрежением. Она беспрестанно вспоминала о судьбе матери; деяния отца также не были от нее скрыты, хотя он очень редко с нею виделся и совершенно ни о чем не рассказывал ей и ее не расспрашивал. Даже после смерти Медынской он сам пожелал, чтоб она лучше взяла комнатку у старика учителя, а не переходила к нему. Он как будто боялся выказать себя перед нею, да и дела его в это время были уж очень плохи. Он пришел к ней только в ту минуту, когда задумал признаться в убийстве, и ей первой открыл свое преступление. А потом, после губернаторского решения, его посадили в острог, и Таня к нему ходить начала. Сначала он оскорблялся тем, что вот родная дочь его по состраданию навещает, и был молчалив и суров, но потом смягчился и даже стал с ней нежен. Скоро он умер в остроге; его предсмертное состояние изображено довольно живо, равно как и впечатление, произведенное его смертью на Татьяну. Схоронивши его, Татьяна решилась посвятить себя одинокой и трудовой жизни. Сложения она была слабого и болезненного, и потому ей не трудно было отказаться от супружеского счастья; но она не пошла в монастырь, чтоб там укрыться от житейских треволнений. Ее идеал был в другом роде: она осталась сначала у Сенеки – учить маленьких детей; потом отыскала старого своего деда, который, спившись, начал уже побираться по миру, и уехала в деревню – жить с ним и ухаживать за ним. Она поддерживала его и себя своими трудами: зимой и в ненастье шила она бабьи наряды, весной ходила работать в огороды, а летом на сенокос. Сначала эти работы утомляли ее, но мало-помалу она свыклась с ними. Кроме того, она учит крестьянских детей грамоте, лечит больных, чему выучилась тоже у Сенеки, и ходит читать псалтырь по умершим, за что и названа читальщицей. За труды свои она ничего не просит, но принимает вознаграждение, какое дадут; только за чтение псалтыря ничего не берет она, искренне веруя, что этим заслужит отпущение грехов отца своего…
Таков идеальный характер, найденный г. Славутинским в глуши русской жизни. Он едва намечен, в рисунке его нет той художественной полноты и яркости, какие мы привыкли видеть в замечательных произведениях литературы. Это недостаток, собственно, исполнения. Но если отбросить в сторону незыблемые требования искусства, то мы должны отдать полную справедливость автору за живую, умную и правдивую передачу действительной истории, за прямое и верное указание на существующий, не выдуманный, а присущий русской жизни идеальный образ. Пусть это указание сделано без особенного изящества и одушевления; но мы рады тому, что все-таки указан такой факт, лучше и чище которого не придумывали наши идеализаторы, при всем своем возвышенном настроении.
Кроме «Читальщицы», в книжке «Повестей» помещена «История моего деда», тоже бывшая в «Русском вестнике»[11]. Это история, как сам автор предупреждает, – вроде Дубровского: богатый сосед-помещик заедает бедного, но гордого соседа, напустившись на него с неправою тяжбою, которую, однако, все оправдывают. Здесь является перед нами весь произвол помещичьей власти в прошлом столетии и все бесправие, беззащитность – не только крепостных, но даже и бедных дворян перед прихотью сильного магната. Рассказ этот составляет «отрывок из записок», и к нему очень идет короткий, сжатый и несколько спешный тон г. Славутинского. Впрочем, даже и здесь иногда, хоть и читаешь нечто вроде хроники, хочется читателю отдохнуть на подробностях, хочется видеть более отчетливое, более внутреннее развитие факта; но это желание весьма редко удовлетворяется. Мы думаем, что именно этому обязаны рассказы г. Славутинского гораздо меньшим успехом в публике, нежели какого они заслуживают.
Третья из напечатанных теперь повестей, «Чужая беда», знакома читателям «Современника»[12]. В ней более живых картин и сцен, движение повести происходит более в самом действии, а не в пересказе автора. Но и в ней заметен тот же недостаток художественной полноты в очертании образов. Личность богатого старика Терехина, который насквозь видит все плутни головы и может им противодействовать, но не хочет, не желая вмешиваться в чужое дело, а потом, будучи сам задет за живое, собирает все силы на борьбу с головой, но уже поздно, – личность эта очерчена очень рельефно, и внутренний мир этого старика раскрыт нам автором гораздо больше, нежели душевная жизнь других лиц в его повестях. Но и здесь автор не воспользовался случаем воссоздать в своем рассказе весь процесс образования и развития такого характера и такого особенного отношения одного лица к обществу. Он отчетливо выставил нам Терехина в том моменте, в каком он застал его, намекнул даже на причины, от которых старик сделался таким суровым и несообщительным, но намекнул слабо, в общих чертах, и из повести мы можем понять, если подумаем пристально, но не можем осязательно и живо почувствовать, как именно и отчего сложился такой характер и каким образом проявляется он во все стороны жизни. Оттого при чтении повести мы почти не имеем руководительной нити и не можем определить, что именно должен он сделать в таком-то случае, куда он пойдет и до чего дойдет. Узнавши потом из рассказа о его поступке, мы видим, что такой образ действий возможен и естествен; но мы все-таки смутно постигаем его внутреннюю необходимость. Вот отчего повесть не производит такого цельного и глубокого впечатления, какого можно бы ожидать, судя по основной ее мысли и по интересу взятого характера.
Выходит, стало быть, что глубокомысленный критик, о котором мы говорили в начале рецензии, и теперь остается прав с одной стороны: требования искусства не удовлетворяются произведением, в котором выставлена вся правда народной жизни. Но мы смеем думать, что в настоящем случае это – простая случайность, зависящая от личности автора и вообще от недостатка еще в нас того чутья к внутреннему развитию народной жизни, которое так сильно у некоторых писателей наших в отношении к жизни образованных классов. Но никак не решимся мы сказать, чтоб это зависело от самого предмета, никак не согласимся, что искусство должно отказаться от простонародных предметов, потому что их полное и совершенное воспроизведение несогласно с его требованиями. Напротив, в повестях же г. Славутинского, особенно в последней, мы видим, что где он не спешит вперед, а отдается своей наблюдательности и останавливается на картинах народной жизни, там у него выходят живые, занимательные страницы, западающие в память и в то же время неподдельно верные действительности, как и весь строй повестей его. И во всяком случае, если уж выбирать между искусством и действительностью, то пусть лучше будут неудовлетворяющие эстетическим теориям, но верные смыслу действительности рассказы, нежели безукоризненные для отвлеченного искусства, но искажающие жизнь и ее истинное значение.
С этой точки зрения, мы находим особенный интерес в повестях г. Славутинского. В них нет даже ни малейшей претензии на эстетические украшения: они просто – верная передача действительных фактов, без прикрас, без натянутостей, без дидактических основ. А между тем в них всегда оказывается и умная мысль в результате, и логически верное, понятное, хотя и не вполне раскрытое, развитие характеров и объяснение зависимости их от влияния окружающей среды, и, наконец, являются сами собою даже идеальные лица русской жизни, с более живыми и чистыми тенденциями, нежели сочиненные идеалы образованного общества. И все это выходит без нарочитых усилий со стороны автора, просто по силе истины изображаемых предметов. По нашему мнению, писатель, у которого хотя в бледных очерках проявилось так естественно все это богатство русской жизни, заслуживает полного участия публики, еще так недавно интересовавшейся сладенькими идиллиями народного быта. На этом основании мы и остановились так долго над произведениями г. Славутинского, желая указать на их значение нашим читателям.
Комментарии
1
В прямых скобках [] приведены те места, которые были изъяты по требованию цензуры из первоначальных журнальных публикаций статей и восстановлены впоследствии в первом издании Сочинений Добролюбова, подготовленном к печати Н. Г. Чернышевским в 1862 г.
2
Имеется в виду П. В. Анненков, который писал об этом в статье «По поводу романов и рассказов из простонародного быта» («Современник», 1854, кн. II, III).
3
…грязный волкан в «Нашем времени». – Имеются в виду статьи редактора этой газеты Н. Ф. Павлова, в частности его отзыв о «Грозе» А. Островского.
4
«Сказания русского народа» И. П. Сахарова последним (третьим) изданием печатались в 1841–1849 гг.; книги И. М. Снегирева: «Русские в своих пословицах» – в 1831–1834 гг. и «Русские народные пословицы и притчи» – в 1848 г.; книга А. В. Терещенко «Быт русского народа» вышла в 1848 г.
5
Роман Ал. Потехина «Крестьянка» печатался в «Москвитянине» в 1853 г.; повесть М. И. Михайлова «Ау» – в «Библиотеке для чтения» в 1855 г., его рассказ «Африкан» – в «Современнике» в 1855 г.; повесть Л. А. Мея «Кириллыч» впервые напечатана в «Библиотеке для чтения» в 1855 г.; идиллия А. Н. Майкова «Дурочка» датирована 1851 г., впервые напечатана в сб. «Для легкого чтения» (т. I, 1856); рассказ М. В. Авдеева «Огненный змей» впервые напечатан в «Отечественных записках» за 1853 г.
6
Рассказ А. Ф. Писемского «Леший» впервые напечатан в «Современнике» в 1853 г.
7
Марфуша – героиня рассказа А. Ф. Писемского «Леший».
8
Повесть «Своя рубашка» была напечатана в кн. VI «Современника» за 1859 г.; «Жизнь и похождения Трифона Афанасьева» – в кн. IX.
9
«Читальщица» Славутинского была опубликована в «Русском вестнике» за 1858 г.
10
Добролюбов имеет в виду рассказ А. Ф. Писемского «Питерщик» («Москвитянин», 1858).
11
«История моего деда» Славутинского была напечатана в «Русском вестнике» за 1858 г.
12
Добролюбов ошибочно назвал повесть «Чужая беда»; действительное название повести «Мирская беда».