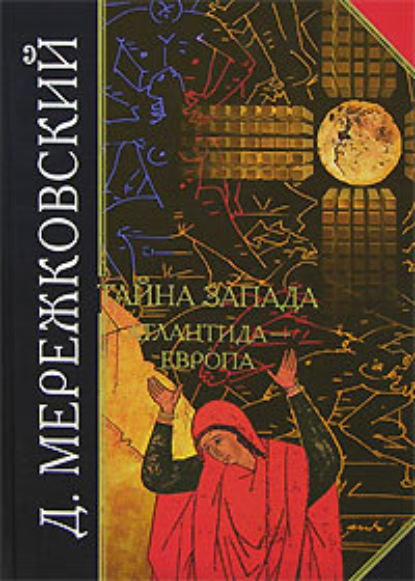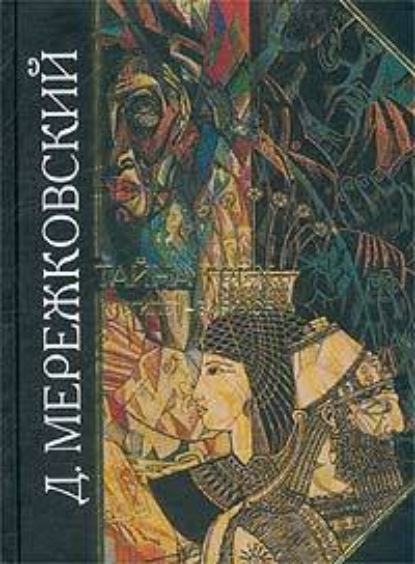Полная версия
Иисус Неизвестный
Все это нам очень трудно, почти невозможно понять; но без этого мы никогда не поймем, что такое Евангелие, а главное, не увидим того, что за ним – живую жизнь живого Христа, неизвестную – Неизвестного.
VI
Первая досиноптическая запись, вошедшая потом в синоптиков (synoptikoi, значит Со-видцы, Со-гласники, в противоположность Иоанну, Не-согласнику), появилась, в Палестине. Иисусовой родине, и на Его родном, арамейском языке, вероятно, около 40-х годов, прежде, чем вымерло Его поколение;[77] но запись эта еще не имела ходу, разве только как пособие для вступавших в общину, младших братьев, не видевших и не слышавших самого Господа, чтобы выучивать наизусть «слова Господни».[78]
В 73 г., в конце Иудейской войны, первые христиане бежали из разрушенного Иерусалима, в соседний город, Пеллу (Pêlla), а затем, дальше, в Кокабу (Kokaba), в Батанейской области царя Ирода Агриппы II, почти на границе Набатейского царства (Аравии). Здесь же поселились и родственники Иисуса, в том числе поверившие в Него, наконец, братья.[79] Первое воркование этих Батанейских, от бури в щель скалы, в тишину восходящего солнца – царства Божьего, укрывшихся, белых голубей – «нищих Божьих», ebionim, первые записанные «слова Господни», logia kyriaka.
Можем ли мы верить, что они записаны с точностью? Можем. Тесно жмутся все друг к другу в этой голубиной стае: братская сближенность – одна душа. Его, в одном. Его же, теле, – лучшая для нас порука точной памяти; что забудет один, – другие напомнят; в чем ошибется, – поправят. Помнят не только слова Его, но и звуки живого голоса, лицо, взгляд, движение, с какими слова были сказаны, и где, и когда: все, как сейчас, помнят, потому что любят.
VII
Чудной крепости и свежести древней, устной памяти, по опыту нашей, письменной, загроможденной и расслабленной, мы себе и представить не можем. Весь огромный Талмуд, так же, как Риг-Веды (16 000 стихов) и Коран, сохранялся в устной памяти, в течение веков. «Доброго ученика память крепчайшим цементом обложенному водоему подобна: капли не вытечет», – говорят учителя Талмуда.[80]
Внешней силе памяти помогает внутренняя сила слов Господних.
Никогда человек не говорил так, как этот Человек. (Ио. 7, 46).
Если это сразу поняли простые, может быть, грубые люди – слуги фарисейские, посланные схватить Иисуса, то тем более – ученики. Вот этим-то: «никогда человек не говорил так», – знаком нечеловеческой единственности, несоизмеримости ни с какой мерой человеческой, – им, слышавшим, памятны, а нам, читающим, подлинны эти слова: здесь памятность и подлинность – одно и то же.
«Тихим и страшным, как бы нездешним, светом выделяются слова Его из всех человеческих слов, так что их сразу можно узнать», – замечает Ренан,[81] а ему, тонкому и сложному, неверующему, это, конечно, еще труднее было понять, чем простым и грубым людям, слугам фарисейским.
Стоит лишь сравнить Евангелие с другими книгами Нового Завета, или еще лучше, евангелиста Луку с Лукой Деяний Апостолов, чтобы сразу почувствовать всю разницу между тем Словом и этими, как сразу чувствуют легкий переход из лесного воздуха в комнатный, или глаз – переход от солнца к свече. Точно с неба на землю падаешь.
VIII
Просты эти слова так, что ребенку понятны. Маленькие притчи, детские картинки, навсегда прилипающие к памяти: бревно в своем глазу, сучок в глазу брата; слепой ведет слепого в яму: это так просто, понятно, что до конца мира не забудется.
Детям понятно и непонятно мудрецам, потому что под ясным верхним слоем есть множество других, в глубину уходящих, все более темных и загадочных, слоев. Но, прежде чем это заметит человек, – в ум, совесть, волю его, и, уж конечно, в память, впиваются эти загадки, как острые шипы или ядовитые жала: в чье сердце раз впилось, тот уже отравлен навсегда.
IX
Глиной рассыпающейся кажутся все слова человеческие перед этими, алмазно-твердыми и ясными. Мир на них движется, как на неразрушимых осях: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут».
Шероховаты, как щебень, все слова человеческие перед этими, – из божественной Логики-Логоса – растущими, геометрически совершенными кристаллами. Памяти глаза тотчас же заметна малейшая на них неправильность – выпуклость или вдавленность – не в них самих ошибка, а в памяти. Лучше, или даже просто иначе – нельзя сказать; кто не верит, пусть попробует лучше сказать – точнее огранить алмаз.
X
Внутренняя музыка речи во всех переводах, на всех языках неразрушима. Нет вообще книги более, чем эта, всемирной, всеязычной и всевременной.
«Что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли, ветром колеблемую?» или «придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные» – это звучит и будет звучать до конца мира, во всех концах мира, одинаково, неразрушимо.[82]
Память слуха тотчас же отличает звук этих слов, как настоящего золота от оловянного звука фальшивых монет – всех человеческих слов; тотчас узнает, вспоминает, среди всех чужих голосов, этот, родной: «овцы за Ним идут, потому что знают голос Его» (Ио. 10, 4); среди всех шумов земных – звуки рая.
XI
Памяти слуха знаком и особый неповторимый, двойственный лад в словах Господних – параллелизм двух членов, не согласный просто, как в Ветхом Завете, а противоположно-согласный: «первые будут последними, а последние – первыми»; «сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший – сбережет». В каждом слове – тезис, антитезис и синтез; «да», «нет», и соединяющее над ними «да»; Отец, Сын и Дух. Троичной музыкой звучит все Евангелие, как раковина – шумом волн морских.
Крыльями этого двойного лада проносится слово Его через все века и народы, живое, бессмертное, как то чудесно-окрыленное семя растений, что, в малейшем веянии ветра, несется за тысячи верст.
XII
Сразу отличается слово Его от всех человеческих слов и памятью вкуса. Пресны все они перед этими «солеными». – «Соль – добрая вещь» – «Соль имейте в себе» (Мк. 9, 50). В скольких словах Его – соль не только Божественной мудрости, но и ума человеческого, можно бы сказать, почти «остроумия», не в нашем смысле, конечно, а в ином, для которого у нас нет слова. Докучная вдова у судьи, домоправитель неверный, глупый богач перед смертью, и сколько других. В каждом слове – особенно в притчах, есть крупинка этой соли – скорбно или радостно, но всегда одинаково тихо, над всем земным, неземной улыбки сияющий свет.
Рыбу, только что пойманную в Геннисаретском озере, тут же, на берегу, потрошат, чистят, солят и сушат на солнце. Это – смиренная пища рыбаков Галилейских, Двенадцати, и сходящих к ним Ангелов. Кто раз отведал, за царственно-нищенской трапезой Господа, этой соленой Геннисаретской рыбки, тот уже никогда не забудет ее и не променяет ни на какие амброзийные сладости.
XIII
Но, может быть, лучше всего узнает слова Его память сердца.
«Кто не оставит отца своего и матери своей…» «Я голодал, и вы не дали мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня» (Мт. 25, 42–44). Это проходит по сердцу, как огненное острие, и рубец от ожога остается навеки, так что сразу можно узнать, чей прошел здесь огонь. Вот по таким рубцам на сердце человечества, если бы даже исчезло Евангелие, можно было бы узнать, что Христос на земле был.
XIV
Подлинник арамейский все еще внятно звучит сквозь переводный греческий язык Евангелия.[83]
Кто такие арамеяне? Северная, к арийцам ближайшая, ветвь семитского племени; самые ранние, за два, за три тысячелетия до Р. X., не государственные и даже, в иудейском, пророческом духе, противогосударственные, духовные, посредники между Вавилоном-Египтом и Ханааном-Финикией (Крито-Егеей – «Атлантидой в Европе»); древней всемирности, «кафоличности», последние, и новой – первые вестники.[84] Если миф о потопе, «Атлантиде», – конце первого человечества, – религиозно, а может быть, и преисторически значителен, то «второй Адам», Иисус, говорит второму человечеству на языке первого.
В XI веке до Христа арамейский язык – такой же всемирный, каким будет, через тысячу лет, простонародный Общий– Koinê, эллинистический язык Александра Великого и самого Бога Диониса – тени Солнца, Сына грядущего.[85] Евангелие, переведенное на этот язык с арамейского, соединяет обе всемирности в одну, оба человечества в одно: второе и первое – в третье. И здесь опять тезис, антитезис и синтез; Отец, Сын и Дух: тою же музыкой Троичной звучит Евангелие, как раковина шумом волн морских.
XV
Мы должны пробиться сквозь греческий перевод к арамейскому подлиннику, чтобы услышать «живой, неумолкающий голос» Христа, почувствовать, как вместе с родным языком Его веет на нас «само дыхание Божественных уст», suavitates, guae velut ex ora lesu Christi… afflari videntur.[86]
Первый младенческий лепет Его к Отцу на языке земной матери: «Абба, Отец», и последний вопль на кресте: lama sabhahthani, – оба арамейские. Rabbi Jeschua – Иисус Арамейский – Иисус Неизвестный.
XVI
То, что сыграно на арфе, иначе звучит на флейте.[87]
Talitha koumi значит не «девица, встань», а «девочка, проснись». Страшное чудо воскресения как детски просто, понятно, естественно, в этом слове, детски простом. «Встань, девица», – душа молчит, спит мертвым сном; «девочка, проснись», – душа воскресает, просыпается.[88]
Эта простота – божественность Евангелия; чем проще, тем божественней. Эта простота – прозрачность, невидимость, как бы отсутствие, воздуха в Евангелии. В райски ясное зимнее утро на Иисусовой родине, Галилейских предгориях, – воздух, чистейший, небесный, на земле, эфир, так прозрачен, что самое далекое становится близким: от Фавора до Ермона, кажется, рукой подать. Тот же небесный эфир и в Евангелии. Двух тысячелетий, отделяющих нас от него, как не бывало: все – как вчера-сегодня; не было, – есть. «Прежде нежели был Авраам», – и после того, как будете вы, будут последние люди мира, – «Я есмь». Между Ним и нами – ничего; мы с Ним – лицом к лицу.
Это так страшно, что понятно, что иногда и верующие люди, целыми годами, боятся заглянуть в Евангелие; в церкви слушают его, а у себя дома уши затыкают, чтобы не слышать страшно-близкого голоса: «Сегодня Мне надо быть у тебя в доме».
XVII
Это-то вот страшно-близкое, простое Евангелие и есть Неизвестное. Очень простых людей простые «Воспоминания», устные: писать не умеют, «неграмотны», да и некогда: «сейчас придет Сам».
«Воспоминания Апостолов, так называемые Евангелия», – говорит св. Юстин Мученик (150 г.), видевший и слышавший тех, кто видел и слышал Господа.[89] Это значит: «Воспоминания», Apomnêmoneumata – первое имя книги, древнейшее, а «Евангелия» – второе, позднейшее. «Воспоминания», не в смысле «Достопамятностей», Memorabilia, как у Ксенофонта о Сократе (есть ли во Христе более или менее достойное памяти; не все ли одинаково?), а скорее, в смысле наших личных и исторических «Воспоминаний», «Мемуаров». Это надо всегда помнить, чтобы понять, что такое Евангелие!
XVIII
«Мы почти ничего не можем узнать об историческом Иисусе из Евангелий, потому что книга эта, по самому происхождению своему, вовсе не историческая, а богослужебная: читалась, уже в 40-х годах I века, на воскресных богослужениях», – как сообщает тот же Юстин Мученик.[90] Эти ходячие сомнения в историчности Евангелия очень легко опровергнуть.
Прежде всего, тогдашние, не первых годов, а первых дней христианства, когда появились первые записи «слов Господних», понятия «церковного», вообще, и «богослужебного», в частности, вовсе не соответствуют нашим. Маленькие домашние «церковки» горенки, где все так просто, бедно, голо и братски тесно, тепло, уютно ласково, только внутренне огромно, ужасно, потому что Он сам только что был здесь и, может быть, опять будет сейчас, – потому что всегда невидимо здесь присутствует (раrousia) – эти маленькие церковки слишком непохожи на наши огромные, великолепные и холодные церкви-храмы. Если бы один из тех «нищих Божиих», Божиих детей, вдруг увидел себя в такой церкви – в Римском Петре или св. Софии, – то как удивился бы, испугался, чуть не заплакал бы от страха, как маленькие дети плачут; как не узнал бы памятных записок своих – тесно, по-арамейски, исписанных клочков папируса или пергамента, зачитанных, запачканных, но какими слезами облитых, какой любовью осиянных, – своих «Евангелий», – в этой огромной, тяжелой, почти не разгибающейся, в пурпуре, золото и драгоценные камни закованной, книге, – в нашем церковном Евангелии!
XIX
Это прежде всего, а потом – прав Ориген: «Если бы не были правдивы Евангелисты, а измышляли басни (мифы), как полагает Цельз, то не сообщили бы об отречении Петра и о соблазне учеников.[91] И только ли об этом одном? Петр, в устах Господних, – «сатана»; Иуда Предатель, избранный в сонм Двенадцати самим Учителем, предвидевшим, чем для Него и для них будет Иуда; «одержимость», «бесноватость» Иисуса в страшном рассказе Иоанна (7, 20; 10, 20), и еще более страшном, у Марка, «сумасшествие» Иисуса, признанное не только братьями Его, но, может быть, и матерью (3, 21; 31–35); второй, освобожденный от креста Иисуса Варавва, Bar-Abba, – «Сын Отца» (так в древнейших подлиннейших рукописях);[92] и последний вопль Сына к Отцу: «для чего Ты Меня оставил?»… Да надо ли перечислять? Стоит только заглянуть в Евангелие, чтобы увидеть, что все оно полно такими «соблазнами», skandala, «тяжкими словами» (Ио. 6, 60); все оно – «прорекаемое знамение», как уже Симеон Богоприимец, держа Младенца на руках, предрек:
Вот, лежит Сей… в пререкаемое знамение. Semeion antilegomenon. (Лк. l, 2, 34).
Странная – страшная, «богослужебная» книга, где, как будто нарочно, на каждом шагу, такие западни-загадки понаставлены. Можно сказать, как это тоже ни странно, ни страшно, что Евангелие – книга наименее «богослужебная» и даже, – разумея «Церковь» не в тогдашнем, первых дней христианства, а в нашем смысле, наименее «церковная» из всех бывших, настоящих и, вероятно, будущих книг.
Страшную Книгу надо было закрыть, заковать в железо, камень, адамант, чтобы слишком свободный дух ее не взорвал и не рушил всей церкви. Но в том-то и божественная сила Церкви, что она это сделала так, что только вечно подавляемым – никогда не подавленным – духом Евангелия она и живет; только этими внутренними, тихими взрывами и движется.
Чтобы, после всего этого, сомневаться в «историчности» Евангелия, надо быть очень плохим историком.
XX
Чувствуется, как иногда вспоминающим трудно вспоминать живую речь Иисуса – эти «странные, тяжкие слова»; как иногда не понимают они сказанного:
Те, кто со Мной, Меня не поняли.[93]
И недоумевают, «соблазняются», а все-таки передают с точностью непонятные слова, нераскрытые и нетронутые, цельные, живые, как бы все еще теплые от «дыхания Божественных уст». Тяжкие глыбы слов нагромождают, не смея прикасаться к ним, обтесывать и сглаживать. Слова слишком глубоко проникли в сердце их; слишком неизгладимо запечатлелось в памяти, чтобы могли они, если бы даже хотели, не записать их так, как слышали.
Мы не можем не говорить того, что видели и слышали (Д. А. 4, 20).
Почему не могут? Потому что слишком любят Его. Вот эта-то любовь к Нему бесконечная – в бесконечной правдивости Евангелия лучшая порука.[94]
XXI
Рост Евангелия похож на то, как если бы случайно, в беспорядке, складывались в один ларец отдельные листки, памятные записки о словах и событиях из жизни Господа, и потом, оживая, срастались бы, как лепестки, в один цветок, так что их уже нельзя было бы разделить, не убивая цветка, и резко противоположные – «противоречивые» – окраски их сливались бы в одну живую прелесть цветка – лица Господня. «Ты прекраснее сынов человеческих», и книга о Тебе прекраснее всех человеческих книг. Но само Евангелие не знает красоты своей, и не хочет быть прекрасным: если бы узнало, захотело, – все очарование исчезло бы. Богу одному цветет, благоухает этот неизвестный, Неизвестного Рая цветок.
XXII
Воздух нужен цветку – свобода Евангелию. Какая свобода? Скажем просто: всякая, – в том числе и «свобода критики».
Критика – суд. Если Евангелие – истина, то может ли быть над ним суд? Истина судит, а не судится. Но, во-первых, кто из нас посмеет сказать, живя, как мы живем, что Евангелие для него уже истина! А во-вторых, истина борется с ложью и от нее обороняется. Такая оборона – Апология, родившаяся, можно сказать, вместе с Евангелием. Но, если истинная Критика кончается Апологетикой, то, может быть, и обратно: Апологетика начинается с Критики.
XXIII
В кажущихся или действительных «противоречиях» Евангелий уже дана необходимая свобода выбора, суда – критики.
«Что ты называешь Меня благим?» – это у Марка (10, 18), а у Матфея (19, 17): «Что ты спрашиваешь Меня о благом?» Мог ли Иисус говорить и так и эдак? А разница, – как небо от земли. Хочешь, не хочешь, – суди, выбирай свободно, – будь судьей, «критиком».[95]
К выбору нас принуждают противоречия не только между словами в разных Евангелиях, но и между разными чтениями одного и того же слова.
«Иисус не мог сотворить там (в Назарете) никакого чуда» – так в нашем каноническом тексте (Мк. 6, 5), а в древнейших Италийских кодексах (Italocodices): «Иисус не сотворил там никакого чуда», non faciebat – в том смысле, конечно, что «хотя и мог сотворить, но не хотел».[96] Разница опять огромная, и сгладить ее можно только очень грубым насильем, сломав или притупив божественное острие Слова человеческой тупостью.
А вот еще острее. В нашем позднем, от IV века, каноническом чтении Мт. 1, 16: «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус». А в Сиро-Синайском кодексе (Syrus Sinaiticus), с греческого подлинника II века:
Иосиф, которому обручена была
дева Мария, родил Иисуса.
Joseph, cui desponsata virgo Maria,
genuit lesum.[97]
Здесь уже разница касается самого догмата о Бессемянном зачатии. Как с этим быть, люди не знали и спрятали рукопись в темный угол Синайского книгохранилища, где она и пролежала пятнадцать веков, пока, наконец, не вышла на свет, в наши дни, к тщетному, может быть, злорадству левых критиков и не менее тщетному ужасу теологов.[98]
XXIV
«Дух Св. водил рукой евангелистов, когда они писали Евангелия», – учит один протестантский богослов XVI века.[99] Это значит: пишущий Евангелист для Духа то же, что для музыканта – органные клавиши. Если так, то надо, конечно, согласить все «противоречия» в Евангелиях, хотя бы пришлось для этого, в начале подобных «симфоний», утверждать, как это делает бл. Августин, что были две Марии Магдалины, а в конце, как этого никто не делает, – что Иисус дважды родился и трижды умер, или, другими словами, надо верить, что Божественный Смысл принуждает людей к бессмыслице. А если не так, то дыхание Духа – «Боговдохновенность» Евангелия и воля к свободе – одно и то же.
XXV
«Кто не свободно верит, тот ходи в церковь, слушай „чтение Евангелия“, но сам в него не заглядывай: старую веру потеряет, а новую – найдет ли, еще неизвестно.
XXVI
Есть что-то божественно-трогательное, хочется сказать, – «божественно-жалобное», в евангельских «противоречиях» – этих как будто отчаянных, судорожных, и все-таки к свободе человеческой бережных, усилиях Духа Божьего пробиться сквозь плоть и кровь, – в тщетных иногда усилиях, подобных трепету пламени в душном воздухе и голубиных крыл в сетях.
XXVII
Самый страшный дар Божий людям – свобода, но и самый святой. Это чувствуется лучше всего здесь, в Евангелии. Вот почему первое, на что кидаются все поработители духа, чтобы истребить, – эта, самая страшная для них книга – Евангелие.
«Вместо того, чтобы овладеть людскою свободою. Ты умножил ее и обременил ее мученьями человека навеки… Но неужели Ты не подумал, что он отвергнет же, наконец… и Твою правду, если его угнетут таким страшным бременем?» – говорит Великий Инквизитор (Достоевский).
«Трупом будь в руках учителя, perinde ас cadaver», – говорит Лойола. Трупом хочет быть Паскаль, но не может и сходит с ума от страха «бездны» – свободы евангельской.
XXVIII
Бояться свободы, не верить в нее, значит не верить в Духа Св., потому что свобода человеческая в Боге и есть Дух, – вот к чему приводит нас евангельская критика, – и это не мало.
Может быть, страшной ценой, но мы, наконец, поняли, или вот-вот поймем, чего за две тысячи лет христианства никто никогда не понимал, – что неизвестное имя Христа – Освободитель, и что, не приняв свободы, мы никогда не узнаем Его, Неизвестного.
3. Марк, Матфей, Лука
I
В звездное небо из подвижной щели обсерваторного купола устремленный глаз телескопа может быть также свят, как псалом Давида:
Небеса проповедуют славу Божию,
и о делах рук Его вещает твердь.
(Пс. 18, 1)
Этого люди малого знания не видят; видят Ньютон и Коперник. Критика – такой устремленный в евангельское небо телескоп, а пристальное, тысячелетнее внимание, напряженность взгляда на Евангелие – телескопного стекла шлифовка. Может быть, лучше всех ученых богословов и критиков читают Евангелие ребенок и святой; но эти могут не увидеть в нем того, что видят те.[100]
II
Новое, небывалой мощи и совершенной шлифовки стекло в телескопе евангельской критики – так называемая «Двухисточниковая теория», Zweiquellentheorie. Что она такое, так же трудно объяснить в немногих словах, как что такое спектральный анализ. Но мы должны верить, что люди свято проводят иногда целую жизнь в обсерваториях и в евангельской критике, там, наблюдая внешнее, космическое небо, здесь, внутреннее, евангельское, – это бездоннее того. Пристального внимания целой человеческой жизни мало, – нужно внимание целых поколений, чтобы открыть новые звезды-миры. Их-то и открывает Двухисточниковая теория.
III
Марк, древнейший из синоптиков («Со-видцев», «Со-гласников»), к Человеку Иисусу для нас ближайший свидетель, – по крайней мере, в тех свидетельствах, какие мы имеем сейчас, – Марк – один из «двух источников» нашего знания. Марку, а не Матфею принадлежит, вопреки церковному преданию, первое место в историческом порядке Евангелистов. Вовсе не Марк, как думали прежде, заимствует у двух остальных синоптиков, а, наоборот, те – у него. Целого почти века научных усилий, целых жизней человеческих, может быть, иногда с гибелью душ – утратою веры, – стоило и это сравнительно легкое открытие. Вторая же часть теории еще труднее.
Марк для Луки и Матфея – не единственный, а только один из двух источников. Следуя за Марком, с большею точностью в передаче слов Господних, с меньшею – в изображении событий, Матфей и Лука друг друга не знают, в чем легко убедиться, по слишком явным, и, при взаимном знакомстве, невозможным, «противоречиям», особенно в повествовании о Рождестве и о явлениях воскресшего Господа. Чем же объяснить совпадение Луки и Матфея до поразительной, иногда буквальной, грамматической точности, в передаче главнейших, все решающих, но у Марка отсутствующих, слов Господних? Только тем, что оба они черпают из какого-то невидимого нам, может быть, древнейшего, чем Марк, досиноптического, наверное, письменного, источника, вероятно, того самого, о котором упоминает и Папий или стоящий за ним «пресвитер Иоанн», говоря о «словах Господних», Logia kyriaka, будто бы «собранных» или записанных мытарем Матфеем-Левием на «еврейском», т. е. арамейском, языке, и, должно быть, смешивая эту запись с нашим греческим Матфеем.[101]