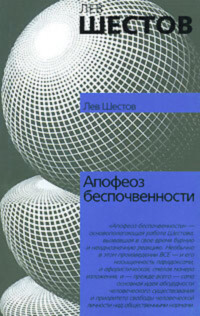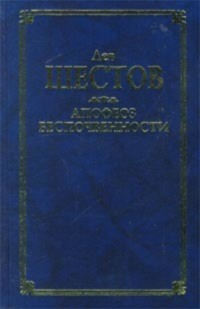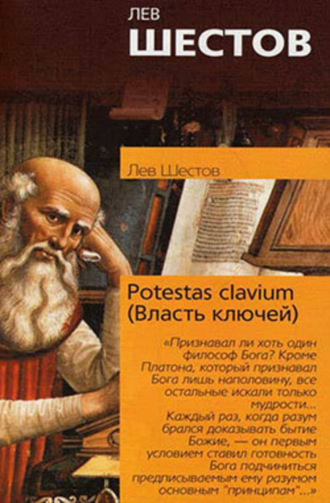 полная версия
полная версияPotestas clavium (Власть ключей)
Только «разум» тут ни при чем. И рассуждения Эпиктета тоже ни при чем. Отлично можно обойтись без разума и без рассуждений: прямо заявить раз навсегда, что не хочу, мол, ничему давать власть над собой. Не хочу радоваться случайной удаче, не хочу печалиться случайным горем. Пусть Судьба пошлет мне гений, красоту и могущество Александра Македонского – я их вместе с Диогеном отвергну. Пусть та же судьба пошлет меня на пытку, я не пророню ни одной слезы. Не хочу ни радоваться, ни огорчаться до тех пор, пока не приобрету власти смеяться и плакать не тогда, когда это заблагорассудится судьбе, а когда я сам того пожелаю. Оттого-то стоики так много говорили о бренности всего земного. Что мне в милости судьбы, когда она вольна завтра же переложить милость на гнев?! ’ Εχω ού̓κ έ̓χομαι[47] – любимая поговорка стоиков, и из нее вытекают все их бесконечные рассуждения, будто бы основывающиеся на разуме. Но они бы могли совершенно освободить себя от рассуждений и доказательств.
Разум в такой же степени на их стороне, как и на стороне их противников. Поскольку А = А, поскольку их решимость не отдаваться во власть природе неизменна, постольку стоики выдержат поставляемые ими себе задачи: не будут плакать, не будут радоваться, какие бы дары и испытания ни посылали им боги, или станут петь веселые песни на пытке и проливать слезы, когда им будут дарованы всемирные монархии. Но как скоро их решимость поколеблется, если вдруг им покажется, что лучше быть последним поденщиком в этом мире, созданном богами, чем царями в их собственном мире теней, – прощай все рассуждения, доказательства и ссылки на разум! И может быть, тогда они больше возлюбят божественный произвол, чем гармонию и порядок, выдуманные людьми.
13
Синтез. Синтез до сих пор в большом почете – и не только в Европе, но и в России, даром что мы вот уже сколько лет надрываемся, хотим освободиться от «духовного гнета» Запада. Как доходит дело до синтеза – все за него горой, без разницы в направлениях. Всем кажется, что синтез всегда уместен, о чем бы ни шла речь. Не только Спенсер, когда он вздумал в свою систему синтетической философии включить и самые загадочные явления человеческой жизни, искал обобщающих идей, – теперь нетрудно встретить верующих философов, которые ведут свои исследования по методу Спенсера. Начинают с фетишизма и доходят до самых развитых религий. По их мнению, уже дикарь, поклоняющийся деревянному болвану, быку или змее, «верит», и в его вере можно уже in nuce найти истинную веру. Мне десяток раз приходилось в самых различных книгах, даже с решительным imprimatur,[48] наталкиваться на такого рода утверждения, – да и не только мне: всякий, конечно, наталкивался, кто читал книги. И добро бы Спенсер – для него религия была одним из многих подлежащих изучению и объяснению естественных социальных явлений. Для него и дикарь, секущий своего идола, чтоб вырвать у него содействие, и араб или турок, рвущийся в бой в уверенности, что если ему удастся убить много гяуров, то он попадет в рай, где будут сады, фонтаны и гурии, и пророк Исаия, и апостол Павел, – все верующие люди. Такой синтез, конечно, очень полезен, и даже кажется научным, ибо упрощает задачу: можно уже объяснять не Исаию или Павла, которых не так-то легко объяснить, а дикаря или турка, психология которого лежит на ладони или, во всяком случае, кажется элементарной и несложной. Но для чего мог понадобиться такой синтез верующему человеку? Стоит только присмотреться, и станет совершенно очевидно, что фетишизм дикаря не имеет ровно ничего общего с верой. Он убежден, что идол, если его посечь, испугается и поможет ему завтра затравить кабана! Но ведь так же верит грубый человек в знахаря или культурный – в непогрешимость материализма! Или обманутый муж – в добродетель своей жены, наивный помещик – в честность управляющего! Но разве все эти веры обманутых людей, положившихся на слова близких или высоко над ними поставленных лиц, имеют хоть что-нибудь общее с верой? Случайно они называются одним общим именем, подобно тому как, употребляя выражение Спинозы, называются одним общим именем и созвездие Пса, и пес – лающее животное. Хотят широких обобщений и ради них охотно отказываются от истины, ибо несомненно, что человек, который верой считает то, что равно находится и в фетишизме, и в Псалмах, может быть, и придумает очень понятную и убедительную аргументацию, но уж наверное потеряет из виду то, ради чего он пустился в путь.
14
Изъясненные и неизъясненные мысли. Сейчас на тысячи ладов развивают тютчевский стих: «мысль изъясненная есть ложь». И все согласно думают, что мысль, переведенная в слова, оттого становится ложью, что у людей мало слов, а какие есть, те недостаточно гибки и эластичны и потому жмут и насилуют мысль. Немного правды в этом, пожалуй, есть, но только очень немного. Мысль наша, облекшись в слова, становится ложью не столько оттого, что нельзя найти для нее подходящего выражения, сколько оттого, что мы не смеем показать ее в том виде, в каком она явилась нам. Самого бедного языка достаточно, чтоб передать многое, о чем мы теперь молчим. Мы всего боимся и всегда боимся, и больше всего боимся мыслей. Поэтому, когда время от времени рождается на свет смелый человек, у него не бывает недостатка в словах. Во всяком случае, без колебания можно утверждать, что можно было бы гораздо больше сказать, чем мы говорим, и гораздо меньше лгать, чем мы лжем. Но нам этого не нужно, нам правда в тягость – не по Сеньке человеку такая шапка, как правда, – и мы лжем, трусливо ссылаясь в свое оправдание на бедность языка. Посмотрите на идеи, которые приняло в свой обиход человечество, – разве они лживы потому, что те, кто их возвещают, не умели рассказать о себе? Разве тот, кто утверждает сейчас, что высшее благо есть любовь, в то время как он весь кипит ненавистью, не умел бы сказать, что для него высшее благо – покорить и раздавить врага?! Отлично умел бы, но он знает, что если он это скажет, то он всем покажется глупым и смешным. Или тот, кто утверждает, что он не принимает мира, потому что ему не удалось стать Наполеоном, не мог что ли просто сказать, что ему хотелось бы быть действительным статским советником? Мог бы, конечно, но ему кажется, что его настоящая идея слишком тускла и сера, а он хочет высказывать только блестящие идеи, которые сверкают, как крупные алмазы. Философы – каждый, разумеется, о себе – утверждают, что их учения совершенно свободны от противоречий и что только потому они этих учений держатся, что убедились, что в них противоречий нет. Что ж, у них не было слов, чтобы высказать свою настоящую мысль неискаженной, чтобы просто заявить, что они выбрали учения, которые им показались больше по вкусу, и что их задача не столько в том, чтоб избегнуть противоречий, сколько в том, чтоб эти противоречия более или менее искусно скрыть от проницательности противников? Слова, конечно, были, и вовсе не нужно каких-либо особенных слов, чтобы такие мысли при изъяснении не превратились в ложь. Философы просто не хотят открыто высказываться, ибо не хотят губить свою репутацию и прослыть глупцами. Но все-таки, по заведенному обычаю, вздыхают о том, что их мысль обратилась, помимо их воли, в ложь. Или разговоры об абсолютной истине! Католики утверждают, что они проповедуют то, quod semper ubique et ab omnibus creditum est. Разве они не могли бы сказать вместо semper – довольно долгое время, вместо ubique – на довольно большом пространстве, вместо ab omnibus – просто многими людьми? Те, которые говорят об абсолютной истине, уже давно удовлетворились истиной очень относительной, и удовлетворились вполне. Но говорят об абсолютной, самой абсолютной истине. Наконец, чтоб не забыть наиболее распространенную в наше время мысль, – кто теперь не говорит о своем пророческом предназначении? Все хотят быть теперь пророками – даже чин Наполеона сейчас кажется уже скромным. Что ж? Вы думаете, что эта мысль лжива, потому что настоящую правду пророки не могли изъяснить в словах?! Ведь обыкновенно о своем пророчестве говорят писатели, и такие писатели, которые млеют от всякой похвалы. Они отлично могли бы рассказать, что им вовсе и не нужно быть пророками и что они были бы очень довольны, если бы их всегда или часто хвалили за талант, ум, проницательность. Но такую правду не смеют вывести на люди и рассказывают неправду, меланхолически ссылаясь на то, что мысль обратилась в ложь, так как ее нужно было высказать. Не думайте, что я здесь имею в виду ординарных, ничтожных писателей. Нет, тут грех общечеловеческий! – Все лгут, и лгут невыносимо, и живут постоянно в этой атмосфере лжи и не задыхаются – только вздыхают. В конце концов, люди предпочитают традиционные, возвышенные обманы всякой истине – не только низкой, но и такой, о которой они не знают, какова она по существу, а потом дивятся, отчего это им никак не удается сказать правду и почему в жизни так много лжи…
15
Правила и исключения. Какие истины нужны человеку? За этим вопросом сейчас следует второй: как узнать, какие истины нужны человеку? Есть ли какая-нибудь предпосылка, из которой безошибочно можно было бы заключить, что такие-то истины нужны, а другие не нужны! Такой предпосылки нет – по крайней мере, насколько мне известно, нет в распоряжении человечества. Правда, многие утверждают, что нужны такие истины, которые все бы люди окончательно и навсегда согласились бы принять. Но это утверждение только на первый взгляд представляется самоочевидным, на самом деле оно просто наивно; импонирует же оно нам единственно потому, что оно часто повторяется и, как все привычное, уже кажется понятным и даже естественным. Прежде всего, где такие истины, которые бы всеми признавались? Я, конечно, не о математике и не об эмпирических науках говорю. Они сами по себе, а истины, о которых у нас идет речь, – сами по себе. Как выберешься за пределы так называемых точных наук – люди уже пошли кто во что горазд. Не то что нельзя «всех объединить» в признании одной истины, не то даже, что сколько голов, столько умов, – умов вы насчитаете больше, чем голов: нередко один человек сразу принимает несколько противоположных истин. Так что о безошибочных предпосылках и безошибочных же заключениях говорить не приходится. Еще немцы могут надеяться на выводы, предпосылки, безошибочность. Нам же придется обойтись без всех этих ученых украшений и дать ответ, какой Бог на душу положит. Еще, может быть, станут возражать против самой постановки первого вопроса. Скажут, что нам вовсе не дано разбирать, какие нам нужны истины, что истины всегда приходится брать такими, как они есть. Но я опять скажу, что это немецкая выучка. Истины вовсе не приходится брать принудительно, а люди берут – по крайней мере большей частью, почти всегда, – что им вздумается: не по хорошу мил, а по милу хорош. Посмотрите: почти общее правило, что люди с возрастом меняют свои убеждения. Что было привлекательно в молодости, то становится противным в старости и, как все противное, отбрасывается. В наше время люди прощаются со своими юношескими убеждениями задолго до появления седины в волосах. И не только не стесняются быстроты своего развития, но гордятся ею. Если бы дело шло об истине, – об истине, которую нельзя принять, пока она не станет несомненной, – то такая торопливость и переменчивость была бы совершенно немыслимой. Но в том-то и дело, что и в молодости, и в зрелом возрасте, и в старости люди совсем не так близко принимают к сердцу объективную значимость истины, так что невольно возникает вопрос, не следуют ли они здесь заложенному в них самой природой инстинкту? Правда, люди не признаются открыто в своей переменчивости, даже, наоборот, очень тщательно скрывают ее.
По заведенному тысячелетнему обычаю, они обставляют каждое новое свое утверждение торжественнейшими обрядами – они не просто выбирают себе по вкусу, что им сейчас нравится, они приобщаются к незыблемой и абсолютной истине, дают обеты вечного ей служения, нисколько не смущаясь тем обстоятельством, что еще вчера они давали такие же торжественные и нерушимые клятвы истине прямо противоположной и, по-видимому, нимало не подозревая, – люди существа очень близорукие, и это не случайное их свойство, а основной предикат их сущности, – что завтра им вновь придется менять своего господина, как не подозревает Дон-Жуан, что ему придется вновь изменить своей возлюбленной, хотя он уже десятки раз менял женщин. Людям скучно долго носиться с одной истиной, у людей истины, как женщины, быстро старятся и теряют свою привлекательность.
Так что на этот раз мне как будто бы удалось не только выставить, но и доказать свое утверждение. Дальше уже пойдет не так доказательно – и это в порядке вещей. Раз мы выбираем себе истины, где уж тут что-нибудь докажешь?! Молодость – великодушна, старость – скаредна. Богатые консервативны и непредприимчивы – им бы только сберечь накопленное. Голь, как известно, хитра на выдумки и т. д.
Сейчас в России великодушие престижем не пользуется. Т. е. по-прежнему его хвалят все, им кичатся все, и больше всего, конечно, кричат о нем те, которые все хотят забрать и присвоить себе. Старая ростопчинская шутка о том, что в Европе бунтует мужик, которому захотелось быть барином, а у нас бунтует барин, задумавший в мужики идти, уже к России неприменима. В этом отношении мы совсем оевропеились: барин хочет остаться барином и очень зорко следит за тем, как бы мужик не урвал кусочек барского добра. Есть и теперь кающиеся дворяне, но они каются не в том, что слишком много взяли у мужика, а в том, что не успели вовремя взять все, что можно было. Ясно, что юность России уже проходит, и хотя ей до седых волос еще далеко, но она начала усваивать себе старческую мудрость. Когда-то мы спешили на выучку к Европе, теперь у нас только и говорят о том, что нужно быть самобытными и освободиться от иноземного духовного гнета. На деле мы никогда еще не принимали так много у Запада, как сейчас, и, наоборот, в ту пору, когда у нас процветала западническая фразеология, мы были особенно своеобразны. Европейцы прежде совершенно не понимали нашей молодежи, европейцы были ошеломлены речами Достоевского и Толстого. Теперь и молодежь у нас оевропеилась, и на смену Толстому и Достоевскому пришли идеологи существующего – совсем как в Европе. Еще, правда, они стесняются быть европейцами и употребляют некоторые старые слова. Но это ненадолго. Скоро и слова станут употребляться с той цинической откровенностью, которая свойственна зрелым людям, принимающим только то, что видно глазам, и презирающим мечтания.
Я нарочно взял для начала пример простой, понятной переменчивости. На наших глазах люди побросали старые истины и на их место поставили новые. И это сделали с таким видом, точно старые истины не были никогда истинами, а только казались истинами, будто им никогда не клялись в вечной верности, новые же устанавливаются впервые и уже окончательно in sæcula sæculorum. Конечно, через двадцать – двадцать пять лет с новыми вечными истинами будет поступлено так же, как и с их вечными предшественницами: они будут свалены в кучу где-нибудь на черном дворе и уступят свои места и предикаты вечности и неизменности истинам самоновейшим. Я думаю, что эту вечную истину следует как можно чаше повторять, так как с ней невероятно трудно освоиться. Человеческая «природа» всем существом своим протестует против нее и «с тех пор как стоит мир» всячески ее от себя гонит. Ибо, – говорят нам, – если принять ее, то придется согласиться, что где-то, на какой-то черте сглаживаются все различия между добром и злом, истиной и ложью, правотой и виновностью. Никто никогда не может сказать про себя, что он добр, что он прав, что он в истине.
Нужно, однако, заметить, что, как ни боятся люди такого признания, но, по-видимому, оно с большей или меньшей неотступностью преследует всех сколько-нибудь думавших о первых и последних вещах – de novissimis. Приняло же человечество притчу о фарисее и мытаре, о блудном сыне. Слышало оно слова: не судите, и тоже принуждено было принять. Но как же правому, доброму, обретшему истину человеку – каким и был фарисей в притче – не судить? Ведь мытарь – злой, неправый, не знающий истины человек! Как не благодарить мне Бога за то, что я не таков, как этот мытарь? Можно не радоваться богатству, успехам, почестям, но не радоваться своим добродетелям ведь преступно?! Допустить, что мытарь лучше или хоть не хуже нас, – это значит отказаться и от истины, и от добра, и от правоты, неразлучной с истиной и добром. Можно пойти на это? Можно признать справедливым, что отец больше обрадовался блудному сыну, покинувшему его и потом вернувшемуся, чем сыну верному, никогда его не покидавшему? Разве такое признание не равнозначаще отказу и от добра, и от истины? Человечество давно уже остановилось и сейчас стоит пред трудной дилеммой. И каждый раз как будто пытается наново решить ее, но в конце концов все же решает по способу Сократа. Когда людям приходится выбирать между непостижимой истиной откровения и «понятными» утверждениями эллинской мудрости, они хотя и после колебаний, но всегда склонялись на сторону последней. Сколько ни толковало европейское человечество о вере, как страстно оно ни стремилось к ней, оно все же не могло победить в себе прирожденного неверия. Оно говорило о вере, но искало знания и понимания. Филон, первый сделавший попытку приобщить западное человечество к явившемуся на востоке откровению, правильно почувствовал, что есть только один путь, один способ привлечь греко-римский мир к истине Библии: убедить его, что истина находится в полном соответствии с учениями эллинской философии. Он знал, что даже Богу не поверят европейцы, пока Он не представит достаточных доказательств своих божественных прав. И Филон впервые заговорил о разумности библейского учения. Его λόγος, взятый им у греческих философов, стал излюбленнейшим мотивом аргументации всех дальнейших христианских апологетов.
Логос греческой философии, ее вечный разум уже целиком заключен в данном на Синае откровении. Бог разумен, сущность Бога – разум: это было обязательным условием успеха новой веры. Греко-римский мир ждал от откровения не новой, дотоле не известной истины. Он хотел только нового, авторитетного, не допускающего уже никаких сомнений подтверждения истины ему известной. С Синая, говорил язычникам Филон, Бог возвестил ту же истину, которую вам восхваляли как единую разумную ваши прославленные мудрецы – Сократ, Платон, Аристотель. Это, по-видимому, был единственный способ провести Библию в Европу. Впоследствии часто говорили, что философия была прислужницей теологии – ancilla teologiæ. И не только говорили, но и думали так. На самом же деле произошло обратное. Европа приняла восточную теологию на одном непременном условии – вечной покорности уже задолго до того созданной философии. Вовсе не случайно Аристотель назывался præcursor Christi in naturalibus[49] и считался, да и сейчас считается, у католиков философом κατ’ ἐξοχήν. Католичество не могло и не хотело просто верить. Оно все боялось, что оно того и гляди попадется впросак – поверит не тому, кому нужно верить, и не так, как нужно. Прежде чем верить, оно спрашивало, cui est credendum, кому поверить? У кого спрашивало? Кто возьмет на себя столь невыносимое бремя ответственности, кто даст ответ на столь страшный вопрос?! Восток – родина религий – предлагал не только Библию, – как решить и кому решить, в какой из восточных книг заключено настоящее откровение? Решение Филона показалось в высшей степени соблазнительным: откровение не должно идти вразрез с эллинским разумом, с λόγος’ом. Конечно, такое решение имело роковое значение для дальнейшего развития католичества. На самом деле Библия, и Ветхий и Новый Завет, менее всего отвечали тем требованиям, которые разум предъявляет к истине. В этих загадочных книгах закон противоречия – первое условие истинности всякого утверждения – прямо игнорировался. Больше того, можно сказать, что греческая философия, по самому существу своему, исключала возможность ветхозаветного и новозаветного откровения. И у Аристотеля, и у Платона мы встречаем утверждение, что вся философия родилась διὰ τò θαυμάζειν, из удивления, и в этом многие готовы были видеть намек на допустимость по крайней мере откровения. Но едва ли это верно. Платоново-аристотелевское удивление есть только пытливость, не больше. Всякая же пытливость является как следствие нарушения духовного равновесия и потому всегда сопровождается потребностью восстановления равновесия. Платон задает вопросы, с тем чтобы получить ответы. И получает, что ему нужно. Оттуда и его девиз: μηδεὶς ἀγεωμέτρητος ἐισίτω – геометрия должна предшествовать философии. Это величайший завет эллинской мудрости, доныне свято оберегаемый всеми без исключения философами. Философия должна быть строгой наукой – она должна все объяснить, без остатка. И теология в этом отношении никогда не хотела и не могла отстать от философии. Ватиканский собор уже в новейшее время подтверждает, что вера не может быть противоразумна, что она должна согласоваться с разумом. «Verum etsi fides sit supra rationem, nulla tamen unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest: cum idem Deus, qui mysteria revelat et fidem infundit, animo humano rationis lumen indiderit, Deus autem negare se ipsum non possit nec verum vero unquam contradicere» (Cap. IV, de fide et ratione).[50] Европейское человечество выбрало себе из шедших с востока учений то, которое оно умело согласовать со своими нуждами и духовными навыками, и приняло лишь в той обработке, которая соответствовала этим нуждам и навыкам. И в этом, собственно, состоит та эллинизация католичества, о которой так много и охотно говорят современные протестантские богословы. Европа, когда ей пришлось выбирать между верой, пришедшей из чуждых стран, и разумом, который она вырастила у себя, недолго колебалась. Если она и приняла веру, то лишь подвергши ее предварительно самому строгому испытанию. Естественно, что разум сохранил свое владычество во всю историю развития католичества. Новейшие протестантские ученые – либеральное богословие – воображают, что они менее эллинизированы, чем средневековые монахи. Но это только один из многих возвышенных обманов, которыми себя наше время тешит, как тешили и другие времена. И Гарнак, и Лоофс, и Трельч, и французские модернисты, так близко подошедшие к немецкой либеральной теологии, насквозь пропитаны эллинизмом, – до такой степени пропитаны, что даже потеряли способность отличать эллинизм от своей подлинной, человеческой сущности. Им кажется, что быть самим собой и быть эллином – это все равно. И какая бы истина ни прошла мимо них, она будет им немила, если она хоть сколько-нибудь оскорбит их новую эллинизированную природу. Они ждут, чтоб истина благословила то, с чем они сроднились, что они полюбили. И если истина не отвечает их надеждам, они ее отвергают, они убежденно принимают ее за ложь. Гарнак уверенно объясняет в своей «Dogmengeschichte», что человечество две тысячи лет работало для того, чтобы доразвиться до того богопонимания, которое принято сейчас немецким либеральным протестантизмом. В этом он, верный ученик Гегеля, совершенно серьезно видит «смысл истории»! Еще раз повторяю: не по хорошу мил, а по милу хорош. Мы выбираем себе истины – это общее правило. В виде редких исключений приходится наблюдать случаи, когда не мы выбираем истины, а истины выбирают нас. Случаи эти, однако, так исключительно редко встречаются, что теории познания с ними совершенно не считаются и не могут считаться. Ибо условия знания – это условия неизменно и всегда существующие (т. е. на самом деле почти неизменно и почти всегда, но мы умеем от этих «почти» очень легко отделываться), – если погнаться за редкими исключениями, никакой теории не построишь.
16
Слова и дела. Философия стоиков не представляет очень большого интереса. Это особенно заметно, когда читаешь сочинения Цицерона и Сенеки. Блестящие, великолепные писатели – а ведь их красноречивые писания быстро утомляют: чувствуется искусство и его последний пафос – honus, который, по выражению самого же Цицерона, alit artes.[51] Стоическая философия, отделенная от стоической жизни, теряет всякий смысл. Но не наоборот. Никак не скажешь, что жизнь стоика, если бы он даже никогда не пытался оправдать себя рассуждениями, была бы лишена притягательной силы. В этом отношении особенно поучительны отрывки Марка Аврелия, в которых мы ценим не столько искусство автора – ему ведь не сравниться ни с Цицероном, ни с Сенекой, – сколько откровенные признания. Вероятно, всякому заметно, что все изречения Марка Аврелия покрыты, точно флером, какой-то тайной, мучительной грустью. Не грустью тихого, весеннего вечера или ясного осеннего дня, в которых все же чувствуется радующая, своеобразная жизнь. Даже не грустью заброшенного деревенского кладбища, дающего – может быть, потому, что оно находится поблизости от поля или леса – поэтическое настроение. Нет, грусть Марка Аврелия – это безысходная грусть заключенного в тюрьму, знающего, что ему уже больше никогда не увидать вольного мира. «Жить сообразно с природой», потому что все бренно на этом свете, – вот постоянный рефрен венценосного писателя. Покорись, смирись, ибо самые отчаянные усилия все же не вернут тебе свободы. Только добродетель вечна, удел всего остального – гибель. Так безыскусственно рассказывает Марк Аврелий о жизни. И кажется, что его рассказ не радует даже его самого. Может быть, он и догадывается, что sub specie æternitatis добродетель не имеет никаких преимуществ пред другими благами жизни. И она ведь не вечна. Самый рискованный способ рассуждений – вводить в качестве одной из посылок вечность. Ибо вечность, именно потому что она вечность, поглощает все без остатка – вместе с обыкновенными благами жизни также и пороки, и добродетели. По-видимому, добродетель все-таки не умела вдохновить Марка Аврелия. Ведь для того, чтобы вдохновиться добродетелью, нужно думать и чувствовать, что в тебе есть силы, потребные для того, чтоб никогда не уступать в жизни соблазнам. Иными словами, чтоб верить в добродетель, нужно быть самому добродетельным до конца или, по крайней мере, нужно вообразить себе, что ты можешь быть добродетельным до конца. Так же как для того, чтоб уверовать в «истину», человеку нужно вообразить себе, что он сам или та школа, к которой он примкнул, этой истиной обладает. Вот почему все добродетельные люди и все обладатели истины обыкновенно бывают так нетерпимы и фанатичны, что даже создалось такое мнение, что фанатичность и нетерпимость суть основные предикаты самой сущности истины и добра. Это, конечно, большое заблуждение. Фанатичность и нетерпимость есть основные свойства слабой, трусливой, ограниченной человеческой природы, а стало быть, лживости и зла. Настоящему стоику, который весь живет еще в области человеческого, слишком человеческого, нужен источник сил для упорной и постоянной борьбы – ему нужно быть фанатиком. Ему нельзя не чувствовать своего превосходства над остальными людьми. У Марка Аврелия такого чувства не было, – стало быть, стоицизм был для него неподходящей философией. Он принял стоицизм, потому что ничего лучшего не нашел в жизни, а не оттого что стоицизм соответствовал запросам его души. Этим, вероятно, и объясняется грустное настроение его книги. Стоик должен быть боевым человеком, воином по самой природе своей, т. е. должен любить борьбу и в победе видеть самоцель, даже в пирровой победе. Остался без войска – в том нет беды, ибо, раз победа за тобой, войско уже и не нужно. Таковы и были настоящие стоики, т. е. не те, которые разговаривали, а те, которые боролись. Они не жалели ничего, всем жертвовали, только бы не сдаваться. У кого нет способности упиваться, опьяняться, жить борьбой и победой, того не сдвинут с места ни блестящие рассуждения Цицерона и Сенеки, ни меланхолические размышления Марка Аврелия. Передают, что Эпиктет, когда его господин сломал ему руку, сказал: тебе же хуже, ты сделал своего раба калекой. Разве, по-вашему, это философия? Кто может быть уверен, что, произнося эти гордые слова, Эпиктет внутреннo не был исполнен отчаяния и не готов был повторить вместе с Псалмопевцем: Господи, отчего ты меня покинул?! Что и говорить, бывают, и часто бывают, в жизни такие минуты, когда завидуешь силе и мужеству Эпиктета. Нужно иной раз уметь ответить глумящемуся хамству, как ответил Эпиктет. Но философия тут ни при чем. Философия начнется после того, как уйдет властный хам и когда человек останется наедине с собою. Тогда мужество его покинет – и так лучше. Тогда придет отчаяние – и это тоже лучше. Тогда… но читатель уже перестал верить тому, что я говорю. Что ж? Быть может, он прав: нужно уметь вовремя остановиться.