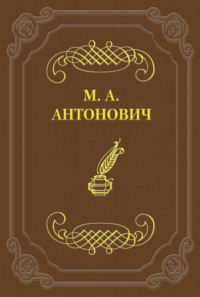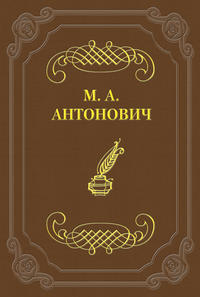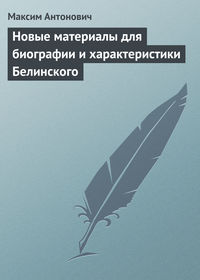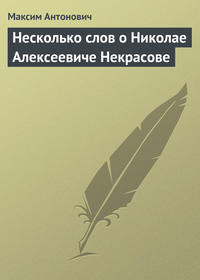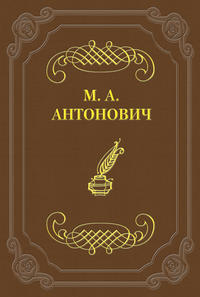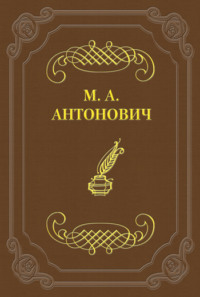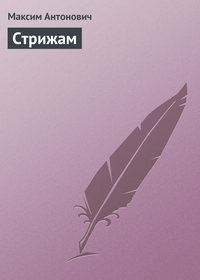полная версия
полная версияПромахи
Вот эти-то взгляды Добролюбова г. Писарев называет ошибкою его, говорит, что в этих взглядах Добролюбов является таким же эстетиком и поборником искусства для искусства, какие он сам преследовал в своих статьях, что, одним словом, в этой своей статье «он сошелся с своими всегдашними противниками». Изумленные таким неожиданным и странным приговором, вы с любопытством прочитываете статью г. Писарева, чтобы узнать основания этого приговора, и по прочтении ее изумляетесь еще более, так как решительно не узнаете, в чем же ошибка Добролюбова и за что он приравнен к поборникам чистого искусства. В своей статье г. Писарев рассказывает содержание «Грозы», подтрунивает над невежеством Катерины, затем предается очень интересным соображениям о том, что Бокль есть великий историк, что его идея об исключительной зависимости прогресса от развития знаний верна и согласна с идеями нашего Крылова, и прочее в этом роде; далее является на сцену парадокс, что «все новые характеры, выводимые в наших романах и драмах, могут относиться или к базаровскому типу (ох, уж этот Базаров!), или к разряду карликов и вечных детей»; а так как Катерина не есть Базаров, то она карлик и дитя. Хорошо; но, спрашиваете вы наконец с досадой, в чем же ошибка Добролюбова, в чем он изменил себе и сошелся с своими противниками? Вы снова начинаете перечитывать статью, присматриваясь к каждому слову, и делаете такое открытие: г. Писарев дает Добролюбову следующего рода наставление: «Добролюбов спросил бы самого себя: как мог сложиться этот светлый образ? Чтобы ответить себе на этот вопрос, он проследил бы жизнь Катерины с самого детства, тем более, что Островский дает на это некоторые материалы; он увидел бы, что воспитание и жизнь не могли дать Катерине ни твердого характера, ни развитого ума». Так вот в чем штука! Г. Писареву почудилось, будто бы Добролюбов представляет себе Катерину женщиной с развитым умом и с развитым характером, которая будто бы и решилась на протест только вследствие образования и развития ума, потому будто бы и названа «лучом света». Навязавши таким образом Добролюбову свою собственную фантазию, г. Писарев и стал опровергать ее так, как бы она принадлежала Добролюбову. Как же можно, рассуждал про себя г. Писарев, назвать Катерину светлым лучом, когда она женщина простая, неразвитая; как она могла протестовать против самодурства, когда воспитание не развило ее ума, когда она вовсе не знала естественных наук, которые, по мнению великого историка Бокля, необходимы для прогресса, не имела таких реалистических идей, какие есть, например, у самого г. Писарева, даже была заражена предрассудками, боялась грома и картины адского пламени, нарисованной на стенах галлереи. Значит, умозаключил г. Писарев, Добролюбов ошибается и есть поборник искусства для искусства, когда называет Катерину протестанткой и лучом света. Удивительное доказательство!
Так-то вы, г. Писарев, внимательны к Добролюбову и так-то вы понимаете то, что хотите опровергать? Где ж это вы нашли, будто бы у Добролюбова Катерина представляется женщиной с развитым умом, будто протест ее вытекает из каких-нибудь определенных понятий и сознанных теоретических принципов, для понимания которых действительно требуется развитие ума? Мы уже видели выше, что, по взгляду Добролюбова, протест Катерины был такого рода, что для него не требовалось ни развитие ума, ни знание естественных наук и Бокля, ни понимание электричества, ни свобода от предрассудков, или чтение статей г. Писарева; это был протест непосредственный, так сказать, инстинктивный, протест цельной нормальной натуры в ее первобытном виде, как она вышла сама собою без всяких посредств искусственного воспитания. Добролюбов точно предвидел нелепые перетолкования г. Писарева и старался предупредить их. Он говорил в своей статье: «В монологах Катерины видно, что у ней и теперь нет ничего формулированного; она до конца водится своей натурой, а не заданными решениями, потому что для решений ей бы надо было иметь логические, твердые основания (или, иначе, умственное развитие), а между тем все начала, которые ей даны для теоретических рассуждений, решительно противны ее натуральным влечениям. Оттого она не только не принимает геройских поз и не произносит изречений, доказывающих твердость характера (а для г. Писарева этакие-то изречения и фразы и составляют всю суть дела; кто не произносит их, тот в его глазах и не имеет характера), а даже напротив – является в виде слабой женщины, не умеющей противиться своим влечениям, и старается оправдывать (курсив у автора) тот героизм, какой проявляется в ее поступках» (Соч. Добролюбова, т. III, стр. 511–512). Как видите, ваше возражение, что Катерина не могла иметь «развитого ума», совершенно нелепо в приложении к взгляду Добролюбова. Далее, так как Катерина «не произносила изречений, доказывающих твердость характера», то г. Писарев и умозаключил, что у нее нет характера, что ни воспитание, ни жизнь не могли дать ему твердости. Но такое умозаключение опровергается уже тем, что у Катерины достало твердости на то, чтобы избавиться от гнета самодурства и путем смерти освободиться от рабской жизни. «Грустно, – говорит Добролюбов, – горько такое освобождение; но что же делать, когда другого выхода нет. Хорошо, что нашлась в бедной женщине решимость хоть на этот страшный выход. В том и сила ее характера». Чтобы видеть эту силу, сравните Катерину с ее мужем Тихоном; он тоже жалуется на свою горькую жизнь и завидует жене, что она хоть смертью избавилась от такой жизни; пред трупом своей жены он воскликнул: «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете и мучиться!» Однако у него недостало решимости ни на что; как ни тяжек был для него гнет матери, однако он мог жить под ним и мириться с ним. Выходит, что Катерина, хотя и не развитая, сильнее его страдала от гнета и имела больше решительности в характере. – Вот идите, г. Писарев, в чем выразился характер Катерины и за что ее хвалит Добролюбов: она свой протест запечатлела своею смертью. И вообще, г. Писарев, знайте навсегда, что люди простые, с неразвитым умом, не знающие ни Бокля, ни электричества, так же сильно и болезненно чувствуют гнет семейного и всякого самодурства и так же способны протестовать против него, как и те развитые умы, которые постоянно бредят о Бокле, стоят выше всяких предрассудков и знают естественные науки; они, может быть, даже сильнее последних чувствуют и протестуют; потому что последние часто ограничивают свой протест только фразами, а когда дело дойдет до дела, то они и на попятный двор. Не кичитесь, г. Писарев, перед теми, которые не знают ничего из того, что так красноречиво излагается в ваших статьях, которые ни слова не слыхивали ни о Бокле, ни о реализме; эти люди тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, и они способны страдать от всякого гнета и по-своему протестовать против причины их страдания; к таким людям принадлежит и Катерина. Конечно, протест разумный, сознанный, протест во имя идеи, добытой путем умственного развития, гораздо выше протеста непосредственного, натурального; но и последний возможен, естественен, человечен и заслуживает сочувствия, как и отнесся к нему Добролюбов.
Другая ошибка, которую выдумал г. Писарев и взвалил на Добролюбова, тоже очень курьезна и придумана им на основании таких умозаключений. Добролюбов хвалит Катерину; а Катерина и родилась и воспиталась в русской патриархальной семье; следовательно, умозаключил г. Писарев, Добролюбов хвалит русскую семью, значит, допускает, что русская семья может давать здоровое развитие и производить светлые явления. А если так, думал г. Писарев, то, значит, Добролюбов изменил своему обличительному направлению, и вместо того, чтобы обличать русскую семью, – стал хвалить ее. Это показалось г. Писареву ужасной ошибкой и непростительной непоследовательностью со стороны Добролюбова, и вот он решился исправить эту ошибку и разоблачить эту непоследовательность. «Там, – гордо провозглашает г. Писарев, – где Добролюбов поддался порыву эстетического чувства, мы постараемся рассуждать хладнокровно, и увидим, что наша семейная и патриархальная жизнь подавляет всякое здоровое развитие. Драма Островского „Гроза“ вызвала со стороны Добролюбова критическую статью, под заглавием „Луч света в темном царстве“. Эта статья была ошибкой со стороны Добролюбова; он увлекся симпатиею к характеру Катерины и принял ее личность за светлое явление. Подробный анализ этого характера покажет нашим читателям, что взгляд Добролюбова в этом случае неверен (читай: не понят нами) и что ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в „темном царстве“ патриархальной русской семьи, выведенной на сцену в драме Островского». Видите, как все это заносчиво и самоуверенно, несмотря на то, что в существе дела оно вздорно и жалко! Г. Писарев, вероятно, не читал статьи Добролюбова и все свои умствования построил только на заглавии ее, превративши при этом луч в явление; иначе мы и представить себе не можем, как можно, прочитавши статью, говорить, что она выгодна для той русской семьи, которая представлена в драме, и изображает светлые явления, возможные в ней. Как день ясный, чрезвычайно определенно высказанный и подробно развитый взгляд статьи такой: гнет патриархальной семьи русской, представленной в «Грозе», до того невыносим, что против него возмущается и протестует даже первобытная непосредственная натура, которой не остается никакого другого выхода из-под семейного гнета, кроме самоубийства. Как видите, это явление очень отрадное и очень лестное для подобной семьи! Но не все способны на такой ужасный исход, и только такие решительные натуры, как Катерина, отваживаются на него. – Но положим, что «Гроза» и Катерина представлены Добролюбовым как очень светлые явления; значит ли это, что он ошибся? Ужели русская семья так-таки и не может произвести ни одного светлого явления, хоть в виде исключения из общего правила? Ведь вот вы, например, г. Писарев, тоже введение русской семьи, однако дошли же до того, что возвысились над нею и критикуете ее; ваше университетское воспитание в том виде, как вы его описали печатно, тоже не могло дать вам «ни твердого характера, ни развитого ума», и, несмотря на это, вы же протестуете против вашего воспитания и как критик представляете собою «светлое явление». Что бы вы сказали тому господину, который для доказательства того, что вы плохой критик и темное явление, стал бы указывать на то обстоятельство, что вы произведение русской семьи, которая не может произвести ни одного светлого явления, и что ваше университетское воспитание было плохо и потому не могло «дать вам развитого ума»? Не правда ли, что это было бы очень странно и даже нелепо? А вы такой именно прием и употребляете против Добролюбова и для унижения Катерины. Вы скажете, что у вас речь идет только о патриархальной семье, выведенной в драме Островского, и о воспитании, которое она может дать, а что семьи непатриархальные и воспитание, даваемое в них, могут производить светлые явления. В таком случае вы сами окажетесь непоследовательным и будете хвалителем непатриархальной семьи и ее воспитания, которые вы так сильно обличаете в ваших статьях. Если же вы светлые явления в непатриархальной семье назовете исключениями, являющимися наперекор семье и ее воспитанию, то вы должны допустить такие исключения и в семье патриархальной. Патриархальная семья не так развита и не так светла, как непатриархальная, но зато и протест ее не блестящ и не учен; член непатриархальной семьи протестует на основании Бокля или ваших статей, а член патриархальной – на основании собственных соображений и чувств, на основании какого-нибудь Кулигина или Варвары.
Таким образом вся эта фанфаронада г. Писарева в сущности очень жалка. Оказывается, что он не понял Добролюбова, перетолковал его мысль и на основании своего непонимания обличил его в небывалых ошибках и в несуществующих противоречиях; точь в точь так г. Зайцев отнесся к статье г. Сеченова. А припомните-ка, как шумно и гордо начал г. Писарев свою статью: мы, дескать, «будем строже и последовательнее Добролюбова», защитим его идеи «от его собственных увлечений», где он поддался эстетическому чувству, там мы будем рассуждать хладнокровно и увидим, что «его взгляд не верен»; и вот все эти заносчивые фразы г. Писарев должен был перевести на следующий скромный язык: я не понял взгляда Добролюбова, и потому мне почудились в нем неверности, непоследовательности, которых в нем вовсе нет. После этого не смешно ли, не жалко ли видеть, как г. Писарев почти в каждой своей статье свысока и с покровительственным тоном относится к Добролюбову, третируя его человеком отсталым во многом, и в особенности как он великодушничает перед ним и показывает свою милость: Добролюбов, дескать, отстал, заражен еще преданиями эстетики, но простим ему его ошибки, ведь он писал и хорошее; г. Писарев выражается так: «Не осуждая их (Белинского и Добролюбова), надо видеть их ошибки и прокладывать новые пути в тех местах, где старые тропинки уклоняются в глушь и болото». Это великодушие и это прокладывание новых путей истинно комичны, так как прощаемая здесь ошибка есть непростительное непонимание самого великодушествующего критика и новый путь есть еще бо́льшая глушь и такое же болото. – Теперь обращаемся к вам, несчастные юноши, доверяющие на слово «Русскому Слову»: не доверяйтесь вы заносчивым, но нерассудительным фразерам, вводящим вас в заблуждение; не верьте тем небылицам, которые они взводят на Добролюбова; освободитесь от их нелепой инсинуации, будто бы Добролюбов уже отстал и устарел для настоящего времени; в особенности же не думайте, будто статья его «Луч света в темном царстве» есть ошибка, непоследовательность и заключает в себе неверный взгляд. Хоть из уважения к памяти Добролюбова перечитайте несколько раз эту статью, изучите ее, и вы сами убедитесь, до какой степени несправедлив ваш «любимец», ваш «лучший цветок», г. Писарев; вы увидите, что в ней Добролюбов последователен и верен самому себе как нельзя больше, что эта статья по идее и по цели стоит в неразрывной связи и в самой естественной гармонии с двумя статьями его о «темном царстве» и потом еще с статьею о «забитых людях». В этих статьях ярко выразились те существенные идеи и цели и те чувства, которые одушевляли всю литературную деятельность и жизнь Добролюбова и которые с большею или меньшею яркостью просвечивают во всех его статьях. Из статьи «Луч света в темном царстве» вы гораздо лучше поймете русскую жизнь и семейную и не семейную, и патриархальную и не патриархальную, чем из опровергающей ее статьи г. Писарева, трактующей о том, что Бокль есть великий историк, что все новые лица суть или Базаровы, или карлики, что Бокль сошелся с Крыловым и проч. и проч. Наученные опытом с г. Зайцевым, мы считаем нужным оговориться, что мы осуждаем г. Писарева не за то, что он критикует Добролюбова, которого мы не считаем непогрешимым и стоящим выше всякой критики, а за то, что он нелепо критикует его; и у Добролюбова могли быть ошибки, но то, что г. Писарев считает ошибкой у него, вовсе не есть ошибка и только по непониманию показалось ему ошибкой.
Вероятно, возбужденный и поощренный примером г. Писарева, проложившего «новый путь» и раскритиковавшего статью Добролюбова, автор «Нерешенною вопроса» тоже решился показать свою удаль, заявить миру, что и для него Добролюбов нипочем, что и он может относиться к Добролюбову покровительственно и полупрезрительно; и как человек крайне прогрессивный, он пошел еще дальше по тому новому пути, который проложил г. Писарев; он забраковал не одну только статью Добролюбова, а почти все его воззрения. «Если бы Белинский и Добролюбов, – говорит автор „Нерешенного вопроса“, – поговорили между собою с глазу на глаз, с полною откровенностью, то они разошлись бы между собою на очень многих пунктах. А если бы мы (слушайте) поговорила таким же образом с Добролюбовым, то мы не сошлись бы с ним почти ни на одном пункте. Читатели „Русского Слова“ знают уже, как радикально мы разошлись с Добролюбовым (да, очень радикально не поняли его) во взгляде на Катерину, т. е. в таком основном вопросе, как оценка светлых явлений в нашей народной жизни» («Русское Слово», 1864, сентябрь. Литературное обозрение, стр. 36). Вот каковы мы, вот что за птица автор «Нерешенного вопроса», он не сходится с Добролюбовым почти ни на одном пункте! Конечно, это несомненно, если смотреть на дело с настоящей точки зрения; автор «Нерешенного вопроса» так же, как и г. Писарев, не понимает Добролюбова, и потому естественно, что не может сходиться с ним. Потом, автор «Нерешенного вопроса» все свое миросозерцание почерпнул из тургеневского романа «Отцы и дети»; понятно, что человек, зараженный тургеневскими нелепостями, не может сойтись ни с одною из светлых и верных идей Добролюбова. Значит, с истинной точки зрения автору «Нерешенного вопроса» нисколько не делает чести то, что он почти ни в чем не сходится с Добролюбовым; это дурно говорит о нем. Но ведь сам-то автор смотрит на это дело с другой точки зрения; он воображает, что несогласие его с Добролюбовым относится к чести его, свидетельствует об его ужасной прогрессивности; приведенными словами он хочет сказать, что он не сходится с Добролюбовым потому, что Добролюбов отстал, устарел, а он, автор «Нерешенного вопроса», слишком далеко ушел вперед, так опередил и перерос Добролюбова, что уж почти ни в чем не может сойтись с ним. Вот в чем настоящий комизм!
Вы, г. Писарев, воображали, что мы не имеем ничего сказать против «Нерешенного вопроса»; слушайте же: приведенные слова о несогласии с Добролюбовым составляют первую капитальную нелепость «Нерешенного вопроса». Вы скажете, что это нелепость неважная и безобидная, что на нее и внимания обращать не следует; пусть себе люди самоуслаждаются и любуются своими несуществующими достоинствами, пусть воображают себя последним словом и плодом русского прогресса, ускакавшими на недостижимое почти расстояние от Добролюбова; зачем напрасно огорчать их и выводить из приятного очарования и самообольщения, ведь они же этим никому вреда не делают? Так и мы сами рассуждали до сих пор, но оказывается теперь, что мы сильно ошибались. Приведенные хвастливые выходки не безобидны и не безвредны, особенно для того несчастного юношества, которое не может возвыситься над «Русским Словом» и всем словам его верит слепо, как изречениям оракула. Услыхавши от г. Писарева, будто бы «Луч света в темном царстве» есть ошибка и неверный взгляд, это юношество уж и не желает читать этой статьи Добролюбова и относится к ней с пренебрежением; а прочитавши приведенные нелепые фразы автора «Нерешенного вопроса» о полном несогласии его с Добролюбовым, оно уже и всего Добролюбова не хочет знать и читать на том основании, что он уже чрезвычайно отстал и устарел; вот, дескать, посмотрите, автор «Нерешенного вопроса» не сходится с ним ни в одном пункте, т. е. не находит в нем почти ни одного истинно прогрессивного взгляда, а в таком случае, вместо Добролюбова, гораздо же лучше читать Тургенева, которого единодушно превозносят и г. Писарев и автор «Нерешенного вопроса», того Тургенева, который создал для нас идеал реалиста и молодого поколения и дал нам в Базарове высокий образец, какого мы не найдем в ошибочных и неверных статьях Добролюбова. Это юношество до того ослеплено фразами заносчивых критиков, что ему и в голову не приходит спросить: в чем же именно отстал Добролюбов и в чем именно они расходятся с ним, так как до сих пор известен только один и единственный пункт несогласия, именно Катерина, да и тот еще очень сомнительный? и почему же это критики не укажут хоть нескольких примеров отсталости Добролюбова и хоть нескольких причин, почему они не сходятся с Добролюбовым почти ни в одном пункте?
Но юношеству, вскормленному фразами «Русского Слова», не представляются эти вопросы; оно верит фразам безусловно; сказано, что Добролюбов отстал почти во всех пунктах, ну, значит и отстал, и рассуждать больше нечего. Следствием этого и бывает то, что эти люди считают своими учителями г. Тургенева, его последователей и комментаторов, т. е. Писарева и автора «Нерешенного вопроса», с присовокуплением к ним гг. Зайцева и Благосветлова.
Наконец заносчивость «Русского Слова» дошла до того, что оно уже не терпит никаких возражений; всякое опровержение и возражение, направленное против него, оно считает личным оскорблением для себя. Оно само без всяких оснований забросает вас самыми забористыми фразами и хлесткими остротами, если вы осмелитесь противоречить ему, хотя бы ваше противоречие было совершенно основательно. А если вы уличите «Русское Слово» в ошибке и при этом не погладите его по головке и наговорите ему комплиментов за эту ошибку, а прямо укажете на его нелепости, то оно сейчас же вломится в амбицию, обидится и начнет выставлять на вид свои литературные подвиги и заслуги и корить вас неблагодарностью за его благодеяния, точно в самом деле подвиги его такого сорта, что даже об ошибках его и нелепостях нужно говорить не иначе, как с почтением и комплиментами. Пример подобной претензии мы видели у г. Зайцева.
Соображая все вредные последствия неразумной заносчивости «Русского Слова», мы думаем, что настоит необходимость для блага литературы убавить спесь его, разоблачить его фразерство, доводящее его до важных ошибок и нелепых суждений; мы оставим деликатные намеки, которых оно не понимает, а будем прямо и строго судить его, не будем снисходительно и сквозь пальцы смотреть на его задорные выходки и на его комическое хроманье, а станем подробно анализировать и обличать их, одним словом, и впредь будем делать то, что сделали с г. Зайцевым и что делаем сию минуту с г. Писаревым и автором «Нерешенного вопроса». Такое дело мы считаем необходимым и полезным. Г. Писарев в своей статье о г. Щедрине сделал такое заявление:
«Мне кажется, что влияние г. Щедрина на молодежь может быть только вредно, и на этом основании я стараюсь разрушить пьедестальчик этого маленького кумира, и произвожу эту отрицательную работу с особенным усердием, именно потому, что тут дело идет о симпатиях молодежи. Я хочу уничтожить эти симпатии, и если они действительно приносят молодым людям только вред, то уничтожение их, и, следовательно, попытка в отрицательном роде, будет полезнее для нашего поколения, чем самая горячая похвала Базарову и Лопухову и самая едкая полемика против г. Каткова. Таким образом, рассмотревши отношения журналистики к молодежи, я показал на этом примере, каким образом дельное отрицание приносит обществу гораздо больше пользы, чем справедливая похвала, воздаваемая существующим фактам»
(«Русское Слово», 1864, февраль).Мы очень рады, что можем нашу мысль выразить вашими словами. Как вы относитесь к деятельности г. Щедрина, так точно мы относимся к деятельности самого г. Писарева и вообще всего «Русского Слова»; нам тоже кажется, что для пользы литературы необходимо разрушить пьедестальчик, который из фраз соорудило себе «Русское Слово», и думаем, что наша деятельность гораздо полезнее для нашего поколения, «чем самая горячая похвала Базарову», какая постоянно рассыпается в ваших статьях, «и самая едкая полемика против г. Каткова», Аверкиева, Стебницкого и им подобных. Конечно, есть в «Русском Слове» и светлые явления в тех местах, где оно оставляет заносчивость и искусительную мысль – забегать вперед по пути прогресса дальше всех, а просто излагает понятые им и неперетолкованные верные мысли других. Но мы не будем говорить об этих светлых явлениях, вполне соглашаясь с мыслью г. Писарева, что отрицание приносит обществу гораздо больше пользы, чем справедливая похвала светлым явлениям.
Но, разрушая пьедестальчик кумирчика или «Русского Слова», мы будем действовать, однако, очень деликатно, хотя и не будем церемониться с ним, как бывало до сих пор. Вследствие разных совершенно случайных соображений нам не хотелось полемизировать с «Русским Словом» лично, или, точнее говоря, поименно; мы предполагали, что у него достанет деликатности настолько, чтобы понять наше желание и сообразоваться с ним; однако случилось не так. «Русское Слово» действует поименно; значит, оно имеет возможность так действовать, потому что и по логике ab esse ad posse valet consequentia. А если же оно имеет возможность действовать поименно, то, значит, и мы имеем право отложить в сторону всякие щекотливые соображения и действовать против него тоже поименно, хотя, к сожалению, и к большой нашей невыгоде в полемике, мы не имеем возможности действовать вполне поименно, т. е. всеми именами. – Затем мы церемонились с беллетристикой «Русского Слова», т. е. не обращали на нее никакого внимания и не делали с нею тех экспериментов, каким «Русское Слово» подвергало беллетристику «Современника». Возьмет, бывало, оно какую-нибудь случайную повесть или роман в «Современнике» и разбирает их по ниточкам с самыми высокими требованиями и, придравшись к нескольким фразам или эпизодам, строит на них самые важные упреки редакции за невыдержанность направления, за напечатание произведений, в которых нет реалистических идей, а есть даже лица, зараженные предрассудками и рассуждающие не так, как рассуждают, например, гг. Зайцев или Писарев. Говоря все это, «Русское Слово», конечно, воображало, что у него самого нет таких неудовлетворительных беллетристических произведений, что каждая его повесть или роман непременно представляют какую-нибудь реалистическую идею, что все лица в рассказах г. Решетникова рассуждают, как г. Зайцев, а в романе г. Благовещенского – как г. Писарев. Для устранения такого самообольщения нам придется встряхнуть беллетристику «Русского Слова», в числе которой есть вещи, уже бывшие и потерпевшие поражение в редакции «Современника»; и мы посмотрим, насколько реалистична эта беллетристика, и будем мерятъ ее не узким масштабом Базарова, а требованиями здравого смысла, даже не будем делать тех уморительных придирок, какие, например, г. Писарев делает к «Воеводе» г. Островского.