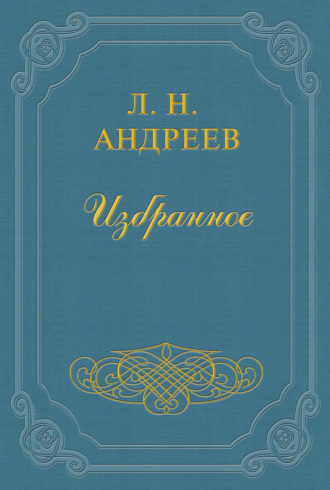 полная версия
полная версияАнатэма

Леонид Андреев
Анатэма
Трагическое представление в семи картинах
Лица, участвующие в представлении
Некто, ограждающий входы.
Анатэма.
Давид Лейзер.
Сура, его жена.
Наум и Роза, их дети.
Иван Бескрайний.
Сонка Цитрон торговцы.
Пурикес.
Учитель танцев.
Молодой господин.
Бледный господин.
Шарманщик.
Странник.
Абрам Хессин.
Плачущая женщина бедняки.
Женщина с ребенком.
Пьяный.
Девочка от Сонки.
Лейбке.
Музыканты, слепые и народ.
Картина первая
Сцена представляет собою пустынную, дикую местность, как бы склон некоей горы, поднимающейся в беспредельную высь. В глубине сцены, на половине горы, стоят огромные, железные, наглухо закрытые врата, знаменующие собою предел умопостигаемого мира. За железными вратами, угнетающими землю своею неимоверной тяжестью, в безмолвии и тайне, обитает Начало всякого бытия. Великий Разум вселенной. У подножия врат, тяжко опершись на длинный меч, в полной неподвижности стоит Некто, ограждающий входы. Облаченный в широкие одежды, в неподвижности складок и изломов своих подобные камню. Он скрывает лицо свое под темным покрывалом и сам являет собою величайшую тайну. Единый мыслимый, един Он предстоит земле; стоящий на грани двух миров, Он двойственен своим составом: по виду человек, по сущности Он дух. Посредник двух миров, он словно щит огромный, сбирающий ей стрелы, – все взоры, все мольбы, все чаяния, укоры и хулы. Носитель двух начал. Он облекает речь свою в безмолвие, подобное безмолвию самих железных врат, и в человеческое слово.
Среди камней, озираясь пугливо и дико, показывается Анатэма – так именуется Некто, преданный заклятию. Припадая к серым камням, сам серый, осторожный и гибкий, как змея, отыскивающая нору, он тихо крадется к Некоему, ограждающему входы, мечтая поразить его ударом неожиданным. Но сам пугается дерзости своей и, вскочив на ноги, смеется вызывающе и злобно. Затем присаживается на камне, с видом свободным и независимым, и бросает маленькие камешки к ногам Некоего, ограждающего входы, – хитрый, он скрывает свой страх под личиной насмешки и легкий дерзости. При слабом свете, сером и бесцветном, голова преданного заклятию кажется огромной: особенно велик его высокий куполообразный лоб, изрезанный морщинами бесплодных дум и неразрешимых, из века поставленных вопросов. Реденькая бородка Анатэмы совершенно седа; побелены сединою и его волосы, некогда черные, как смоль, теперь же серыми, дикими лохмами вздымающиеся на голове его. Беспокойный в движениях, он тщетно пытается скрыть вечно пожирающую его тревогу и торопливость, лишенную цели. И, соревнуя бессильно-гордой неподвижности Некоего, ограждающего входы, он затихает на мгновение в позе гордого величия, но уже в следующую минуту, в мучительной погоне за вечно ускользающим, он мечется в безмолвных корчах, как червь под пятою. И в вопросах своих он быстр и яростен, как вихрь, черпающий силу и ярость в круговращении своем; но, увлекая малые предметы, он распадается бессильно перед яйцом молчания.
Анатэма. Ты все еще здесь на страже? А я думал, что ты ушел – ведь и у цепной собаки есть минуты, когда она отдыхает или спит, хотя бы конурою служил ей целый мир, а господином – вечность! И разве боится воров вечность? Но не гневайся; как добрый друг пришел я к тебе и молю покорно: открой на мгновение тяжелые врата и дай заглянуть мне в вечность. Ты не смеешь? Но, быть может, разошлись от старости могучие врага, и в узенькую щель, никого не тревожа, сможет заглянуть несчастный, честный Анатэма – укажи ее знаком. Тихонько, на брюхе, я подползу, взгляну – и уползу обратно, и он не будет знать. А я буду знать и стану богом, стану богом, стану богом! Так давно уже мне хочется стать богом – и разве плохой бы я был бог? Смотри. (Становится в надменную позу, но тотчас же хохочет. Затем спокойно, поджав ноги, усаживается на плоском камне и бросает игральные кости. Бормочет как бы про себя, но настолько громко, чтобы его слышал Некто, ограждающий входы.) Не хочешь – не надо – драться я не стану. Разве я за этим пришел сюда? Просто я гулял по миру и совершенно случайно забрел сюда – мне нечего делать, и я гуляю. А вот теперь я сыграю в кости – мне нечего делать, и я сыграю в кости. Будь бы не так важен он, я пригласил бы и его, – но он слишком горд, слишком горд и не понимает удовольствия игры. Шесть, восемь, двадцать – верно. У дьявола всегда верно, даже когда он играет честно… Давид Лейзер… Давид Лейзер… (Обращаясь к Некоему, ограждающему входы, развязно.) Ты не знаешь ли Давида Лейзера? Вероятно, нет. Это старый, больной и глупый еврей, которого никто не знает, и даже твой господин забыл о нем. Так говорит Давид Лейзер, и я не могу ему не верить: он глупый, но честный человек. Это его я выиграл сейчас в кости – ты видел: шесть, восемь, двадцать. Однажды на берегу моря я встретил Давида Лейзера, когда он допрашивал волны, о чем жалуются они; и он мне понравился. Глупый, но честный человек, и если его хорошенько просмолить и зажечь, то выйдет недурной факел для моего праздника. (Болтая с притворной развязностью, тихонько перебирается на ближайший к Некоему камень.) Никто не знает Давида Лейзера, а я сделаю его славным, я сделаю его могущественным и великим – очень возможно, что даже бессмертным я сделаю его. Ты не веришь? Никто не верит мудрому Анатэме, даже говорящему правду, – а кто же любит правду больше, нежели Анатэма? Не ты ли? Молчаливый пес, грабитель, укравший целину у мира, железом заградивший входы! (Яростно бросается на Некоего, ограждающего входы, и с визгом ужаса и боли отступает пред грозной неподвижностью его. И ноет жалобно, припадая серой грудью к серому камню.) Ах, у дьявола седые волосы! Плачьте, возлюбившие Анатэму, стенайте и горюйте, стремящиеся к истине, почитающие ум – у Анатэмы седые волосы! Кто поможет сыну зари – он одинок во вселенной. Зачем, великий, ты напугал так бесстрашного Анатэму – он не хотел тебя ударить, он только приблизиться хотел. Можно подойти к тебе, скажи? (Некто, ограждающий входы, молчит, но Анатэме слышится что-то в его молчании. Вытянув змеиную шею, он кричит страстно.) Громче, громче! Молчишь ты или говоришь, я не понимаю? У преданного заклятию тонкий слух, и в твоем молчании он улавливает тени каких-то слов; смутное движение мыслей он чувствует в неподвижности твоей – но он не понимает, Говоришь ты или молчишь? Сказал ли ты: «подойди», или мне только послышалось это?
Некто, ограждающий входы. Подойди.
Анатэма. Ты сказал. Но я не смею подойти.
Некто. Подойди.
Анатэма. Я боюсь! (Нерешительно, зигзагообразными движениями подбирается к Некоему, ложится на брюхо и ползет, стеная от тоски и страха.) Ах, я князь тьмы, я мудрый, я сильный, и видишь, я ползу на брюхе, как собака. И это потому, что я люблю тебя и край твоих одежд поцеловать хочу. Но отчего же так болит мое старое сердце, скажи, Всезнающий.
Некто, ограждающий входы. У преданного заклятию нет сердца.
Анатэма (подвигаясь). Да, да, у преданного заклятию нет сердца, его грудь нема и неподвижна, как серый камень, который не дышит. О, будь у Анатэмы сердце, ты давно убил бы его страданиями, как убиваешь глупого человека. Но у Анатэмы есть ум, ищущий правды, ничем не защищенный от твоих ударов, пощади его… Вот я у ног твоих, открой мне твое лицо. Только на мгновение, короткое, как блеск молний, открой мне лицо твое. (Раболепно жмется у ног Некоего, ограждающего входы, не смея, однако, коснуться его одежд. Тщетно старается опустить глаза, бегающие быстро, заглядывающие, острые, сверкающие, как угли под серым пеплом. Некто молчит, и Анатэма продолжает свои бесплодные и настойчивые мольбы.) Не хочешь? Тогда назови мне имя того, кто за вратами. Тихим голосом назови его, и никто не услышит, и только я буду знать, мудрый Анатэма, тоскующий об истине. Не правда ли, что из семи букв состоит оно? Или из шести? Или из одной? Скажи. Только одна буква – и ты спасешь преданного заклятию от вечных мук, и тебя благословит земля, которую раздираю я когтями. Зачем кричать? Ты скажешь тихо, тихо, только вздохнешь ты, и я уже пойму и благословлю тебя… Скажи. (Некто молчит, и Анатэма после некоторого колебания, полного ярости, медленно отползает, с каждым шагом становясь все смелее.) Это неправда, что я люблю тебя… Это неправда, что я хотел поцеловать край твоих одежд… Мне жаль тебя, если ты поверил: мне просто нечего делать, и я гуляю по миру… Мне нечего делать, и я расспрашиваю встречных о том, о сем, о чем я знаю сам… Я знаю все! (Встает, встряхивается, как собака, вылезшая из воды, и, выбрав камень повыше, становится на него в надменно-актерской позе.) Я знаю все. Мудрый, я проник в смысл всех вещей, мне ведомы законы чисел, и книга судеб открыта мне. Единым взором я объемлю жизнь, я ось в кругу времен, вращающемся быстро. Я велик, я могуч, я бессмертен, и во власть мне отдан человек. Кто посмеет бороться с дьяволом? Сильных я убиваю, слабых я заставляю кружиться в пьяном танце – в безумном танце – в дьявольском танце! Я отравил все источники жизни, на всех ее путях устроил я засады – разве не доходит до тебя голос проклинающих? – изнемогающих под бременем зла? – дерзающих бесплодно? – тоскующих бесконечно и страшно?
Некто, ограждающий входы. Я слышу.
Анатэма (хохочет). Имя! Назови имя! Освети путь дьяволу и человеку. Все в мире хочет добра – и не знает, где найти его, все в мире хочет жизни – и встречает только смерть. Имя! Назови имя добра, назови имя вечной жизни! Я жду!
Некто, ограждающий входы. Нет имени у того, о чем ты спрашиваешь, Анатэма. Нет числа, которым можно исчислить, нет меры, которою можно измерить, нет весов, которыми можно взвесить то, о чем ты спрашиваешь, Анатэма. Всякий, сказавший слово «любовь», солгал. Всякий, сказавший слово «разум», солгал. И даже тот, кто произнес имя «бог», солгал ложью последней и страшной. Ибо нет числа – нет меры – нет весов – нет имени у того, о чем ты спрашиваешь, Анатэма.
Анатэма. Куда мне идти? Скажи.
Некто. Куда идешь.
Анатэма. Что мне делать? Скажи.
Некто. Что делаешь.
Анатэма. Безмолвием ты говоришь – пойму ли я язык безмолвия твоего? Скажи.
Некто. Никогда. Мое лицо открыто – но ты его не видишь. Моя речь громка – но ты ее не слышишь. Мои веления ясны – но ты их не знаешь, Анатэма. И не увидишь никогда – и не услышишь никогда – и не узнаешь никогда, Анатэма – несчастный дух, бессмертный в числах, вечно живой в мере и весах, но еще не родившийся для жизни.
Анатэма (терзаясь). Никогда?
Некто. Никогда.
Анатэма соскакивает с камня и мечется безумно, пожираемый тоскою. Припадая к камням, он обнимает их нежно и отталкивает с гневом; стенает горько. Обращает лицо свое к западу и востоку, северу и югу земли, потрясает руками, как бы призывая ее к гневу и мести. Но безмолвны серые камни, молчит запад и восток, молчит юг и север земли, и в грозной неподвижности, тяжко опершись на меч, стоит Некто, ограждающий входы.
Анатэма. Восстань, земля! Восстань, земля! И препояшься мечом, человек! Не будет мира между тобою и небом, жилищем мрака и смерти становится земля, и князь тьмы воцаряется над нею – отныне и навсегда. К тебе иду я, Давид. Твою печальную жизнь, как камень из пращи, метну я в гордое небо – и дрогнут основы высоких небес. Раб мой, Давид: твоими устами возвещу я правду о судьбе человека. (Обращается к Некоему, ограждающему входы.) А ты!.. (Умолкает стыдливо, смущенный безмолвием. Потягивается лениво, как бы от скуки, и бормочет, но настолько громко, чтобы его слышал Некто.) Впрочем, разве я не гуляю оттого, что мне нечего делать? Был здесь, а теперь пойду туда – разве мало путей у веселого дьявола, любящего здоровый смех и беззаботную шутку. Шесть… это значит, что я приношу Давиду богатство, которого он не ждал. Восемь… это значит, что Давид Лейзер исцеляет больных и воскрешает мертвых. Двадцать – верно! Это значит… Это значит, что мы с Давидом приходим благодарить, с Давидом Лейзером, великим, могучим, бессмертным Давидом Лейзером… Я ухожу.
Анатэма удаляется.
Тишина. Безмолвны камни, безмолвны глухие врата, подавляющие землю безмерной тяжестью своею, безмолвен застывший, окаменевший страж. Тишина.
Но не шаги ли Анатэмы разбудили тревожное, гулкое эхо? Раз, два – идет кто-то тяжелый. Раз, два – грузно ступает кто-то тяжелый; шаг один, а идущих много; молчит идущий – а уже дрожит тишина и зыблется безмолвие. Мгновение звуковой тревоги, бессилия и трепетных порывов. Сразу загорается безмолвие желтыми высокими огнями: то где-то внизу, в невидимой земной дали, медно-звонким, бунтующим криком кричат длинные трубы, которые несут в высоко приподнятых руках: ибо к земле и небу обращен их призывный, мятежный вопль.
Раз, два – теперь уже ясно, что это движется толпа: ее чудовищный голос, ее слитно-раздельные вопли, шумливая и бурная речь; и на низинах ее, в лабиринте ломаных и темных переходов, зарождается первый, отчетливый звук, скорее слово, скорее имя: «Да-а-ви-и-ид». Вычерчивается резче, поднимается выше, и уже над головами плывет оно на крыльях медных воплей, на тяжких ударах переступающих ног.
– Да-а-ви-и-д. Да-а-ви-и-д. Да-а-ви-и-д.
Сливается в аккорды. Становится песней миллионов. Завывают трубы – звоном звенят медные, хрипом хрипят уставшие – зовут.
Слышит ли их Некто, ограждающий входы? Покрылись стонами серые камни – к ногам поднимаются страстные вопли – но неподвижен Страж, но безмолвен Страж, и немы железные врата. Грохочет бездна.
Единым ударом, раскалывающим землю, обрывается рев медный и крик – и из обломков, как ключ из скалы, разбитой молнией, выбивается нежная, певуче-светлая мелодия.
Смолкает.
Безмолвие. Неподвижность. И ожидание – и ожидание – и ожидание.
Занавес
Картина вторая
На юге, летний знойный полдень.
Широкая дорога на выезде из большого людного города. Начинаясь от левого угла сцены, дорога наискось пересекает ее и в глубине круто заворачивает вправо. Два высоких, старинной постройки, каменных столба, оббитых и покосившихся, обозначают границу города. По эту сторону городской черты, у правого столба, заброшенная, старая, когда-то желтая караульня, с обвалившейся штукатуркой и наглухо забитыми окнами; по краям же дороги несколько маленьких, сколоченных из дрянного леса лавчонок, отделенных друг от друга узенькими проходами, – в отчаянной, бессильной борьбе за существование лавчонки бестолково налезают одна на другую. Торгуют они всякою мелочью: леденцами, семечками, дрянною колбасой, селедками; у каждой небольшой грязный прилавок, сквозь который эффектно проходит труба с двумя кранами – из одного течет содовая вода, стакан стоит копейка, из другого – сельтерская. Одна из лавчонок принадлежит Давиду Лейзеру, остальные – греку Пурикесу, молодой еврейке Сонке Цитрон и русскому Ивану Бескрайнему, который, помимо торговли, чинит также обувь и заливает калоши, он же единственный торгует «настоящим боярским» квасом.
Солнце жжет беспощадно, и несколько небольших деревьев со свернувшимися от жары листьями тоскуют о дожде; и безлюдно на пыльной дороге. За столбами, где дорога сворачивает вправо, высокий обрыв – куда-то вниз сбегают пыльные кроны редких деревьев. И, охватывая весь горизонт, дымно-синею полосою раскинулось море и спит глубоко в зное и солнечном блеске.
У своей лавчонки сидит Сура, жена Давида Лейзера, старая еврейка, измученная жизнью. Чинит какие-то лохмотья и скучно переговаривается с другими торговцами.
Сура. Никто не покупает. Никто не пьет содовой воды, никто не покупает семечек и прекрасных леденцов, которые сами тают во рту.
Пурикес (как эхо). Никто не покупает.
Сура. Можно подумать, что все люди умерли только для того, чтобы ничего не покупать. Можно подумать, что во всем мире мы только одни с нашими магазинами – во всем мире только одни.
Пурикес (как эхо). Только одни.
Бескрайний. Солнце сожгло покупателей – одни торговцы остались.
Молчание. Слышен тихий плач Сонки.
Ты, Сонка, купила вчера курицу. Разве ты убила кого-нибудь или ограбила, что можешь покупать кур? И если ты такая богатая и прячешь деньги, то зачем ты торгуешь и мешаешь нам жить?
Пурикес (как эхо). Мешаешь нам жить.
Бескрайний. Сонка, я тебя спрашиваю – правда, что ты вчера купила курицу? Не лги, я знаю это от достоверных людей.
Сонка молчит и плачет.
Сура. Когда еврей покупает курицу, то или еврей болен, или курица больна. У Сонки Цитрон умирает сын; вчера он начал умирать и сегодня кончит – он живучий мальчик и умирает долго.
Бескрайний. Зачем же она пришла сюда, если у нее умирает сын?
Сура. Затем, что нужно торговать.
Пурикес. Нужно торговать.
Сонка плачет.
Сура. Вчера мы не кушали, ждали сегодняшнего дня, и сегодня мы не будем кушать в ожидании, что наступит завтра и принесет нам покупателей и счастье. Счастье! Кто знает, что такое счастье? Все люди равны перед богом, а один торгует на две копейки, другой же на тридцать. И один всегда на тридцать, а другой всегда на две, и никто не знает, за что дается счастье человеку.
Бескрайний. Прежде я торговал на тридцать, а теперь торгую на две. Прежде у меня не было боярского кваса, теперь же есть боярский квас, а торгую я на две копейки. Счастье переменчиво.
Пурикес. Счастье переменчиво.
Сура. Вчера пришел сын мой Наум и спрашивает: «Мама, где отец?» И я ему сказала: «Зачем тебе знать, где отец? Давид Лейзер, твой отец, больной и несчастный человек, который скоро должен умереть; и он ходит на берег моря, чтобы в одиночестве беседовать с богом о своей судьбе. Не тревожь отца, он скоро должен умереть – лучше мне скажи, что хочешь сказать». И так ответил Наум: «Так вот что я говорю тебе, мама, – я начинаю умирать, мама!» Так ответил Наум. Когда же вернулся Давид Лейзер, мой старый муж, я сказала ему: «Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули бога и умри. Ибо уже начинает умирать сын твой Наум».
Сонка плачет сильнее.
Пурикес (вдруг озирается испуганно). А что… А что, если люди совсем перестанут покупать?
Сура (пугаясь). Как совсем?
Пурикес (с возрастающим страхом). Так, вдруг люди совсем перестанут покупать. Что же нам делать тогда?
Бескрайний (тревожно). Как это может быть, чтобы люди совсем перестали покупать? Этого не может быть!
Сура. Этого не может быть.
Пурикес. Нет, может быть! Вдруг все перестанут покупать.
Все охвачены ужасом; даже Сонка перестала плакать и, бледная, озирает испуганными черными глазами пустынную дорогу. Беспощадно жжет солнце. Вдали, на повороте, показывается Анатэма.
Сура. Покупатель!
Пурикес. Покупатель!
Сонка. Покупатель! Покупатель! (Снова плачет.)
Анатэма подходит ближе. На нем, несмотря на жару, черный сюртук из тонкого сукна, черный цилиндр, черные перчатки; только белеет галстук, придавая всему костюму вид торжественности и крайней благопристойности. Он высок ростом и, при седых волосах, строен и прям. Лицо преданного заклятию серовато-смуглого цвета, очертаний строгих и по-своему красивых; когда Анатэма снимает цилиндр, открывается огромный лоб, изрезанный морщинами, и несоразмерно большая голова с исчерна-седыми вздыбившимися волосами. Столь же уродливой чертою, как и чудовищно большой лоб, является шея Анатэмы: жилистая и крепкая, она слишком тонка и длинна, и в нервных подергиваниях и изгибах своих носит голову, как тяжесть, делает ее странно-любопытной, беспокойной и опасной.
Сура. Не хотите ли стакан содовой воды, господин? Жара такая, как в аду, и если не пить, то можно умереть от солнечного удара.
Бескрайний. Настоящий боярский квас!
Пурикес. Фиалковая вода! Боже мой, фиалковая вода!
Сура. Содовая, сельтерская!
Бескрайний. Не пейте ее содовой воды – от ее воды дохнут крысы и тараканы становятся на дыбы.
Сура. Как вам не стыдно, Иван, отбивать покупателя – я же ничего не говорю о вашем боярском квасе, который могут пить только бешеные собаки.
Пурикес (радостно). Покупатель! Покупатель! Пожалуйста, ничего не покупайте у меня, мне даже не нужно, чтобы вы у меня покупали, – мне нужно, чтобы я видел вас. Сонка, ты видишь – покупатель!
Сонка. Я не вижу. Я не могу видеть.
Анатэма снимает цилиндр, любезно кланяясь всем.
Анатэма. Благодарю вас. Я с удовольствием выпью стакан содовой воды и, быть может, даже стакан боярского квасу. Но мне хотелось бы знать, где здесь торговля Давида Лейзера?
Сура (удивленно). Здесь. Вам нужен Давид – а я его жена, Сура.
Анатэма. Да, госпожа Лейзер, мне нужно видеть Давида, Давида Лейзера.
Сура (подозрительно). Вы пришли сказать что-нибудь плохое: у Давида нет друзей, которые носили бы платье из такого тонкого сукна. Тогда уходите лучше – Давида нет, и я не скажу вам, где он.
Анатэма (сердечно). О нет, не беспокойтесь, сударыня: я ничего не принес дурного. Но как приятно видеть такую любовь – вы очень любите вашего мужа, госпожа Лейзер? Вероятно, он очень сильный и здоровый человек и зарабатывает много денег?
Сура (хмурясь). Нет, он старый и больной и не может работать. Но он ничем не согрешил ни против бога, ни против людей, и даже враги не посмеют сказать о нем худое. Вот сельтерская вода, господин, она лучше, чем содовая. И если вы не боитесь жары, то, прошу вас, прясядьте и подождите немного: Давид скоро придет сюда.
Анатэма (присаживаясь). Да, я много хорошего слыхал о вашем муже, но я не знал, что он так болезнен и стар. У вас есть дети, госпожа Лейзер?
Сура. Было шестеро, но четверо первых умерли…
Анатэма (сожалея). Ай-ай-ай.
Сура. Да, мы плохо жили, господин. И осталось только двое. Сын Наум…
Бескрайний. Бездельник, который притворяется больным и целый день шатается по городу.
Сура. Оставьте, Иван, как вам не стыдно порочить честных людей: Наум ходит затем, что он должен добывать кредит. Потом, господин, у нас есть дочь, и зовут ее Роза. Но, к сожалению, она слишком красива, слишком красива, господин. Счастье – что такое счастье? Один умирает от оспы, а другому нужна оспа и нет ее, и лицо чисто, как лепесток.
Анатэма (притворяясь изумленным). Почему же вы жалеете об этом? Красота – дар божий, которым он оделил человека и тем превознес его и приблизил к себе.
Сура. Кто знает? – может быть, дар бога, а может быть, и кого-нибудь другого, о ком я не стану говорить. Но только я не знаю, зачем человеку красивые глаза – если он должен их прятать; зачем белизна лица – если под копотью и грязью он должен скрывать ее. Слишком опасное сокровище – красота, и легче деньги уберечь от грабителей, нежели красоту от злого. (Подозрительно.) Не затем ли вы пришли, чтобы видеть Розу? – тогда лучше уходите: Розы здесь нет, и я не скажу вам, где она.
Пурикес. Покупатель, Сура, смотри: пришел покупатель!
Сура. Да, да, Пурикес. Но он не купит того, за чем он пришел, и не найдет того, что ищет.
Анатэма, приятно улыбаясь, с интересом слушает разговор; всякий раз, как кто-нибудь начинает говорить, он вытягивает шею и поворачивает голову к говорящему, держа ее несколько набок. Гримасничает, как актер, выражая то удивление, то скорбь или негодование. Смеется, однако, некстати и этим несколько пугает и удивляет собеседников.
Бескрайний. Напрасно ты дорожишься, Сура, и не продаешь, когда покупают. Всякий товар залеживается и теряет цену.
Сура (со слезами). Какой вы злой, Иван. Я же вам открыла кредит на десять копеек, а вы только и знаете, что поносите нас.
Бескрайний. Не слушайте меня, Сура. Я злой оттого, что голоден. Господин в черном сюртуке, уходите отсюда: Сура честная женщина и не продаст вам дочери, хотя бы вы предлагали миллион.
Сура (горячо). Да, да, Иван, благодарю вас. И кто сказал вам, господин, что наша Роза прекрасна? Это неправда, – не смейтесь, это неправда, она безобразна, как смертный грех. Она грязна, как собака, которая вылезла из трюма угольного парохода; лицо ее изрыто оспою и похоже на поле, где берут глину и песок; и на правом глазу у нее бельмо, большое бельмо, как у старой лошади. Взгляните на ее волосы – они словно свалявшаяся шерсть, наполовину растасканная птицами; и она же ведь горбится при ходьбе, клянусь вам, она горбится при ходьбе. Если вы ее возьмете, над вами все станут смеяться, вас заплюют, вам не дадут покоя уличные мальчишки…









