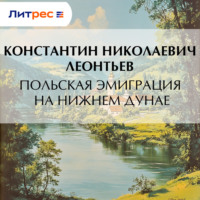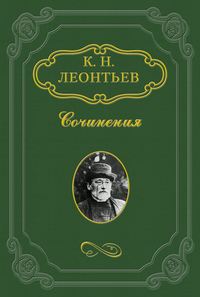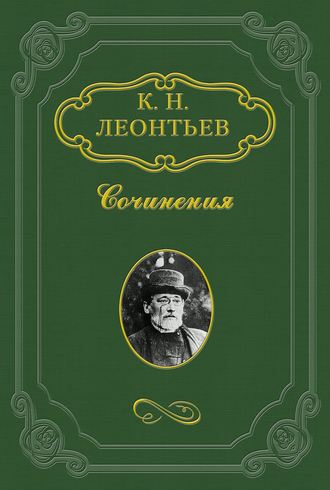 полная версия
полная версияМоя литературная судьба. Автобиография Константина Леонтьева
Я раза два-три просиживал в редакции по несколько часов; работы мне никто никакой не предлагал; я думал, что у них будет так же, как у нас в министерстве или в посольстве. Пришел человек 1-й, 2-й раз на службу; сейчас ему дают работу и он спокоен, и дело идет. Он скоро может представить доказательства своей аккуратности, прилежания, ума. Но я напрасно ждал неделю, напрасно просиживал в редакции, теряя время, дорогое мне для романов и больших статей, целые утра. Все секретари и мелкие сотрудники, корректоры, ломовые чтецы иностранных газет, разные художественные фигуры, молча что-то умеренно-прогрессивное мыслящие в углах, знали свое дело, а я все не узнавал и никто мне его не указывал.
Скучный Воскобойников с усами, у которого я наконец имел счастье просидеть около часа в кабинете, сказал мне так: «Трудно теперь найти такое занятие, которое давало бы рублей 200 в месяц. Но прежде всего советую Вам иметь инициативу, тот из сотрудников, кто сам задумал написать что-нибудь для газеты или журнала, не обратится к Вам, а предложит Каткову свои собственные услуги».
Я задумался немного и сказал ему: «Не написать ли что-нибудь по поводу «Складчины», которая была издана в пользу самарцев. Хотя это и не новость, но я только недавно прочел ее и меня поразило в этой книге вот что: все, что в ней история, воспоминание, правда, то представляет русскую жизнь скорей в хорошем виде, чем в дурном. Все, что в ней вымысел, творчество носит отрицательный, грубый, насмешливый или плоский характер. Это замечание я сделал уже давно; я уже давно говорю, что если французская литература ищет всегда возвысить тон и краски изображаемой жизни, то русская, напротив, никак не может даже и до реальной жизни дорасти. Сначала Гоголь приемами, а революционеры позднее и настроением точно будто атрофировали, заморозили нас, подстригли нам крылья, и в этой книге «Складчина» из очерков и повестей только и есть две неотрицательных; Кохановской – Кроха словесного хлеба и Тургенева – Живые мощи. Да и то «Живые мощи» очень грустны. Это вопрос очень интересный и капитальный; в такой статье можно коснуться кратко всей нашей литературы за последние 20–30 лет. Не надо называть статьи «О Складчине», а по поводу книги «Складчина» Воскобойников сказал: «Это правда, что в этом смысле много можно интересного сказать. Но эта статья будет велика, ее надо в Вестник, а в дела Вестника я не мешаюсь. Там г. Любимов; поговорите с ним; я не имею там влияния. Он другое дело, он профессор, генерал, действительный статский советник. Поговорите с ним».
Кончился Воскобойников.
Опять Любимов. Надо было дня два-три бегать по Москве искать его. Все это еще в первые две-три недели после моего приезда; где ж мне было примениться к тому, когда и где всех этих людей застать.
Наконец, просидевши часа три в лицее П.М. Леонтьева, я там уловил эту ускользающую серую штучку – Любимова. Он всегда очень любезен, впрочем; сел со мной в сторонке, и когда я сказал ему о «Складчине», он одобрил и отвечал: «Одиссей ваш, я думаю, скоро будет набираться; я полагаю, что можно будет пустить его в следующей книжке (в ноябре), и когда будет к сроку и эта статья готова, то кажется, что можно и ее в той же книжке напечатать… Тем более что вы подписываетесь под статьями Константинов. Вот как будто два лица!»
Я успокоился, и хотя денег у меня оставалось уже очень немного, но я надеялся, что можно будет сделать так, чтобы новые мелкие работы шли на прожиток, а Одиссей, Болгарский вопрос, Матвеев (если мы, наконец, сойдемся в этом с редакцией) – служили бы на погашение долга в 4000 рублей, который накопился за два года мои в Царьграде, благодаря неаккуратности редакции в ответах на мои письма и телеграммы, благодаря моему увлечению восточной политикой и моей любви к церкви.
На другой день я заплатил 3 рубля за «Складчину» и сел писать.
IV
До сих пор я говорил все об отношениях моих к Каткову и Леонтьеву. Но я знакомился и имел дело в то же время и со многими другими лицами. С Погодиным, И. Аксаковым, кн. Черкасским, Самариным, B.C. Неклюдовым, позднее с Бодянским и княг. Трубецкой, к которой у меня было письмо от кн. А.М. Голицыной.
Любопытно вот что: у Каткова я был какой-то пролетарий, труженик, подчиненный, должник неоплатный, ищущий еще денег, человек, бывающий только по делу. У других я был гость, консул на Востоке, у Погодина даже замечательный человек, почти авторитет по делам Востока.
Когда я виделся летом с Погодиным, мне достаточно было сказать ему: «Я писал также статьи о панславизме под именем Константинова», чтобы он оживился и воскликнул: «Так вы бы сразу и сказали! Помилуйте, я старик больной, умирать каждый день собираюсь. Время сочтено. Но теперь, когда я знаю, кто вы именно, я готов с вами сколько угодно сидеть».
Вскоре после приезда моего в Москву я поехал к нему на Девичье Поле. Он принял меня опять очень внимательно и попросил меня изложить вкратце, но не спеша, мою теорию вторичного упрощения. Я заметил ему на это вот что: «Вы, кажется, были всегда против аристократии и привилегий, а у меня, даже вовсе неожиданно для меня самого, вышло заключение в пользу аристократии и привилегий».
Он сказал, что научные взгляды меняются и что он мог и ошибаться.
Я начал ему излагать свою систему. Пришлось, беспрестанно удерживая себя от увлечений и подробностей, говорить подряд, я думаю, час, если не более.
Бот тут я увидал, что значит долгая привычка ко вниманию и умственному труду. Этот больной старец во все время не сводил с меня глаз, не перебивая, не шевелясь и все слушая. Глаза его не выражали ни малейшего утомления; они были светлы и внимательны.
Сколько бы из моих очень умных и молодых друзей и приятельниц стали бы невнимательны, или зевнули бы не от скуки непременно, а от телесного утомления, или начали бы перебивать, сбивать и спорить, не постигши еще хорошо сущность мысли.
Впрочем тут много значит еще и то, кто говорит. Когда говорит человек с авторитетом, человек уже известный, его слушают и самобытные люди внимательно, хотя после могут и бранить его.
Свой брат, товарищ, приятель – не то! А для самих авторитетов, для людей, имеющих имя в науке и литературе, свежий, новый человек иногда гораздо дороже тех стародавних знакомцев общего дела, друзей и противников, с которыми они знаются и видятся, может быть, уже десятки лет сряду.
Когда я кончил так, чтобы стало ясно, я спросил у Погодина, что же он думает о моей исторической гипотезе. Он отвечал, опуская голову и пожимая плечами: «Что вам сказать! Я так подавлен обилием и разнообразием ваших мыслей, что не нахожу вдруг вам и ответа». Потом он начал говорить о том, о чем говорил еще летом, о том, чтобы сделать меня редактором славянофильского журнала и написал тут же И. Аксакову записку, в которой рекомендовал меня и дал мне ее прочесть. Насколько помню, в ней было сказано так: «Это человек примечательный: он мог бы, я думаю, стать редактором славянофильского журнала; но мне кажется, его необходимо придерживать за полу». Я посмеялся, поблагодарил его и поехал к Аксакову.
Прибавлю еще вот что. Погодин говорил мне о состоянии нынешней литературы; жаловался на то, что чем дальше, тем хуже. Говорил, что цензура совсем не то преследует, что вредно и опасно для общего духа и хода дел, а то, что не нравится некоторым лицам; рассказывал, что Ив. Аксаков – человек забитый этой цензурой, что он иногда запирается и плачет. А нигилистам, если только они осторожны, житье.
Он жаловался также на классическое воспитание Каткова и Леонтьева, в том смысле, что древним языкам дано уже слишком много часов; что русский ум не немецкий; он может в один час сделать много, а если долго держать его над чем-нибудь, то он утомляется, а немецкий ум выдерживает дольше и т. д.
Молодые люди, утомляясь, бросают и идут в нигилисты, так что мера эта, направленная противу нигилизма, к несчастью, способствует ему.
Он прибавил еще: «Катков и Леонтьев, благодаря своим успехам, сочли себя непогрешимыми; это маленькие Папы. Но все таки… их журнал пока остается прибежищем, и я сам печатаю иногда у них и прямо говорю им: я оттого отдаю вам, что нынче негде печатать».
Каково состояние российской словесности? И не прав ли я был, говоря, что это все пошлость прогресса и либеральности.
Посмотрим, что скажет Аксаков, «этот поп-стрелец», по прозванию Герцена. Оказалось, к несчастью, что он гораздо меньше поп, чем я…
Надо заметить, что он меня не знал, но я его знал давно. Я его знал, во-первых, в Калуге, когда он в 40-х годах, во времена губернатора Смирнова (мужа знаменитой Россет) служил там в Уголовной Палате. Он нанимал флигель в доме родных моих Унковских и бывал у них часто. Я тогда был гимназистом, но уже интересовался литературой и смотрел на него с большим почтением, хотя ничего не прочел из его сочинений. Потом мы случайно встретились в Крыму в Тамаке, имении Иосифа Николаевича Шатилова, и провели вместе там три дня. Аксаков был ополченцем, а я военным врачом; он участвовал тогда в комиссии Васильчикова для исследований всех злоупотреблений, совершившихся во время кампании, и рассказывал много интересного. Гимназистом он меня не помнит, но наша встреча в Крыму пришла ему на память.
Я имел мало времени и хотел скорее дать прочесть кому-нибудь из славянофилов 1-ю часть моей книги «Византизм и славянство».
Поэтому я приехал к Аксакову в 5 часов, во время самого обеда. Когда слуга сказал, что кушают, я велел все-таки доложить и прибавил, что мне лучше в прихожей просидеть полчаса, чем 20 раз приезжать.
Аксаков вышел сам, не совсем, конечно, довольный и вежливым жестом, в котором дрогнуло, впрочем, весьма понятное раздражение, указал мне на дверь кабинета и просил посидеть там, пока он кончит обед.
Я сел в кабинете, закурил папиросу и ждал его долго. Наконец он пришел и, не говоря ни слова, начал искать на столе сигару. Я, тоже продолжая курить, сказал ему так:
«Мне надо извинить, если я приехал не во время. Во-первых, я спешу, а во-вторых, я прожил в Турции 10 лет, а в Москве жил около 20-ти тому назад: я не знаю, в какое время здесь кто обедает.
– Обыкновенно здесь обедают в 5 часов, – отвечал Аксаков.
– Да, в известном кругу, может быть, – сказал я, – а у меня есть дела с людьми разного рода и еще 20 лет тому назад люди одного и того же общества обедали кто в три, кто в четыре, кто в пять часов.
Аксаков сел около меня на диване и довольно благосклонно и внимательно спросил, в каких городах я был консулом? Потом спросил еще: «Ведь это вы печатали повести из восточной жизни?» Я сказал «да» и еще я напечатал у Каткова 2 статьи о панславизме, под именем Константинова».
Его как будто что-то кольнуло, он подался вперед и с живейшим участием воскликнул: «Ах! это вы Константинов!!» После этого любезность его удвоилась и приняла даже тот чуть заметный оттенок почтения или уважительности, который Умеют придать, не роняя себя и возвышая собеседника своим
словом и приемом, порядочные и светские люди, когда хотят доставить ему удовольствие или когда повинуются сами невольному чувству.
Я постарался передать в точности наш разговор для того, чтобы видели люди, кто из нас прав и кто виноват в том, что мы впоследствии не сошлись.
Я начал с того, что сказал ему прямо так:
– Я вышел в отставку вовсе не по разладу с начальством; напротив того, я рискнул приехать сюда, потому что нет никакой возможности печатать и издавать в России что-нибудь за глаза. Конечно, можно сказать, что я поступил нерасчетливо, но и это решит только будущее. Найдутся, может быть, справедливые люди, которые поймут мое положение и поддержат меня.
Он очень заботливо расспросил меня о моих отношениях с Катковым, и я сказал ему, что по вине самой редакции я задолжал ей около 4000, что дело с ним имею поневоле, ибо другого журнала нереволюционного нет и т. д. и прибавил:
– Поймите, зависеть от Каткова вовсе мне не по душе, потому что я его умеренному европеизму не сочувствую. Для меня Мордва милее Европы.
Аксаков очень искренно и сочувственно засмеялся и сказал: «Еще бы! Я это понимаю!»
Я донес ему еще на Каткова, что еще в 69-ом году, когда я приезжал из Турции в отпуск, он, видимо, стараясь подчинить меня больше своему направлению, сказал: – Мне, признаюсь, претит одно это ваше славянофильство. Славянофильство – какая-то гримаса, больше ничего. Пусть сама жизнь вырабатывает эти оригинальные формы, а прежде времени учить нас – это доктринерство.
Аксаков, с пренебрежением улыбаясь, слушал этот донос мой, который я излагал всласть, ибо терпеть не могу и западный прогресс и разжиженное англо-саксонство Вестника, и самый характер Мих. Н-ча, его фальшивую улыбку, его сухость, раздражительность, доходящую до грубости и т. д.
Слово за словом я сказал Аксакову о книге моей «Византизм и славянство», просил его прочесть ее в рукописи и, если можно, найти возможность напечатать ее.
Таким образом мы заговорили прямо о славянах, о славянофильстве, о болгарском вопросе.
– Вторая часть моей книги, – сказал я, – чисто практическая, она написана противу болгар, которые и нравственно и канонически не правы. Эту часть Катков напечатать не прочь с сокращениями. Но в книге есть другие отделения: «О психическом характере греков и югославян» и еще вот та система особая, о которой я не говорю потому, что вы сами прочтете и увидите.
Он стал меня расспрашивать о болгарах, и я ему сказал, между прочим, вот что:
– Многие у нас воображают себе болгар какими-то жертвами и только. Людьми невинными, патриархальными; но надо видеть самому вблизи этих болгарских вождей-буржуа… Какое-то противное соединение Собакевича с Гамбеттой.
Я ему рассказал, что знал об этих богатых старшинах и вождях югославизма, о том, напр., как иные из них, обитающие на о. Халках, ездят каждый день по делам в Константинополь и на пароходах сидят все время в 1-м классе, а в ту минуту, когда идет человек сбирать плату за места, умеют почти всегда исчезать и оказываться в низшем классе, чтобы платить дешевле, тогда как и вся плата ничтожна.
Он много смеялся этому. Я описал ему также, как болгарский архонт Топчилешта, здоровый болгарский Собакевич, идет по улице с базара и несет сам под мышкой огромную связку лука, как этот скучный рябой Бурмов, корреспондент Каткова, покупает вишни и торгуется и как грек лавочник восклицает: «Плохи вишни! Да где ты видел такие! Сказано болгарская голова!» и блестящий корреспондент в высоком цилиндре поспешно уходит.
Я прибавил вот что: «Если бы Топчилешта был старик в восточной одежде, в шальварах и нес бы сам лук по улице, несмотря на свое богатство, то впечатление было бы совсем иное… Он внушал бы симпатии и уважение. А когда видишь эти нескладные, дурно сшитые сюртуки, когда слышишь все эти вычитанные из западных книг фразы о просвещении, о равенстве и свободе… то видишь перед собою вовсе не того почтенного славянского патриарха, которого желал бы видеть и чтить, а так какого-то обыкновенного буржуа, только грубее и глупее европейского».
Аксаков слушал все это улыбаясь и одобрительно. Я чувствовал, что все, что я говорю, ему приятно. Мы долго говорили. Я сказал ему искренно о моих отношениях к Каткову то же, что говорил и Погодину, то есть, что печатать больше негде и что иметь дело с Катковым очень тяжело, потому что надо во всем беспрестанно стесняться, когда пишешь не повести, а статьи.
– «Да! Я это понимаю, понимаю», – сказал Аксаков с выражением особенно интимным и сочувственным в лице и голосе…
Я сказал ему еще кое-что о славянофильстве: мне хотелось проверить самого себя. Я так долго жил и мыслил в уединении турецких провинций, что почти все мои мысли о славянах, Европе и Востоке создались и созрели беспомощно и независимо; в книгах даже был недостаток, а беседы и споров с настоящими, признанными авторитетами того учения, к которому я себя причислял, совсем у меня не было.
Я сказал ему вот что (именно то, что я говорю и в тех статьях моих, которые находятся теперь ненапечатанными по разным рукам и в других еще неоконченных):
– Я не раз думал и говорил друзьям и знакомым своим, что в славянофильстве не столько сами славяне важны, сколько то, что в них есть особенного славянского, отделяющего нас от Запада… И что славянофил истинный не славян во что бы то ни стало и во всех формах должен любить, а именно это особое культурно-славянское… Если только оно найдется или выработается… Вот в чем задача… А что же толку в славянстве ради славянства, политическая сила и больше ничего… И то еще вопрос – будет ли сильно это всеславянство, если оно не будет оригинально, если у него не будет своих особых от Европы принципов…
– Разумеется нет, – сказал Аксаков…
Я продолжал:
– Я часто думал также, если бы Хомякова или Киреевских, или брата вашего поднять из гроба и спросить у них по совести, что лучше: слияние русских с югославянами и неизбежная при этом утрата последней культурной оригинальности, отделяющей нас от Запада, или союз, сближение, смешение даже с турками, тибетцами, индусами какими-нибудь, чтобы только создать что-нибудь свое особое, органическое под их воздействием, хотя бы косвенным, – то все прежние славянофилы предпочли бы этих азиатцев – славянам. Дело в своей культуре, а вовсе не в славянах.
Опять выражение одобрения, опять: «ну, разумеется!», опять как бы радостное кивание главой.
Я прибавил еще: «К сожалению, я напрасно ищу чего-нибудь особенно славянского, сильно выраженного у славян. Я начинаю разочаровываться не в самом учении, а в славянской жизни, которая не хочет идти по этому пути…
Аксаков: «Славянофилы надеются, что сближение всех славян между собою – послужит к выработке этих особенностей».
Я: «А если это сближение с юго-западными славянами приведет нас к тому, что мы еще скорей сольемся с Западной Европой, тогда что?..»
Аксаков: «Ну, тогда все пропало!»
Я обрадовался и успокоился; я увидел, что я верно понимал славянофилов и потому могу смело рассчитывать на всякую от них помощь. Я прошу моих друзей внимательно перечесть этот разговор и сравнить потом, когда дело дойдет до практических приложений этих взглядов, мою прямоту и последовательность с лицемерием или непоследовательностью Аксакова.
Итак, на первый раз он был более чем любезен со мной; он пригласил меня бывать у него по четвергам вечером.
После того, в течение этого октября, в который решилось для меня столькое, мы виделись несколько раз. Дня через два после моего первого посещения Аксаков сам заехал ко мне, не
застал меня дома и оставил карточку с надписью, что четверги его начинаются с будущей недели.
Мне хотелось, чтобы кто-нибудь из славянофилов прочел первую часть моего труда «Византизм и славянство», ту теоретическую часть о триедином процессе развития, которую отверг М.Н. Катков, отзываясь, что в таких вещах можно как раз договориться до чертиков[6]. Рукопись моя, черновая, как всегда была ужасно дурно написана, ибо я трудился над нею через силу во время палящих Босфорских каникул и только живость моего чувства и нестерпимая буря накопившихся мыслей могли через силу бороться с гнетущим жаром южного лета. Старик Погодин был нездоров, глаза его и без того утомленные постоянной работой над собственными сочинениями, воспоминаниями и т. д. отказывались решительно разбирать мои иероглифы. Погодин, чтобы я верил ему, вынул из ящика тетрадь мою и при мне бился-бился и не разобрал почти ни одного слова.
– Вот видите, – сказал он мне, – пока доберешься до смысла другого слова, потеряешь всю нить мысли. Что делать, я стар – мне 76 лет. Собираюсь в дальний путь… Своего труда бездна. Хочу привести все бумаги свои в порядок. Смерть может прийти невзначай. Отдайте прочесть это кому-нибудь помоложе; Аксакову, напр. Я ему напишу еще, если нужно. Ему напечатать негде, у него журнала нет, но если он не придумает для вас ничего лучшего, я напишу Бодянскому. Он напечатает у себя в Чтениях, только даром и даст вам для отдельной продажи 300 экземпляров. Можете все-таки что-нибудь и деньгами приобрести. Верьте, что я с радостью все, что могу, сделаю для вас. Нам нужны такие люди, как Вы, умные, просвещенные, мыслящие и… (он приостановился) и благородные… А мысли ваши я уже довольно хорошо понял из вашего словесного изложения в тот раз. Я сделаю все, что в моих силах. Напишу еще Кошелеву, не хочет ли он дать деньги на журнал и
сделать вас редактором. Если же вы не найдете места напечатать, отдайте мне рукопись… я прочту не торопясь, приберу в свой стол, сделаю свои замечания; если в мыслях ваших есть
правда, они не пропадут для людей. Найдут в моем столе по смерти моей.
Энергичный старик исполнил все свои обещания и впоследствии (когда я уже был в монастыре) показывал мне ответ Кошелева, который отказался от этого плана потому, что с «нашей цензурой» и т. д. Он и так на Беседе потерял, говорят, около 30 000. Предложение Погодина заставило, я помню, меня задуматься. Не об редакторстве, ибо я дал себе слово не искать его и согласиться на него только при самых выгодных условиях денежных и нравственных (напр., чтобы сейчас же бы заплатили за меня братьям хоть по 1500 р. с. каждому и хоть половину моих турецких долгов, назначили бы мне 3000 годового содержания и дали бы полную свободу печатать, как хочу и что хочу!); нет, я задумался о том, так ли я близок к славянофилам, как мне казалось… или нет?.. Не ошибается ли Погодин, думая, что меня можно сблизить, напр., с Кошелевым, которого политические взгляды возмущали меня еще в Турции своей бесцветно-крикливой либеральностью. (Напр., «Что нам нужно?» в «Беседе». Пошло до нельзя!) Надо допустить что-нибудь одно: или что между известными московскими славянофилами есть значительная личная разница, не только в характерах, как бывает всегда, но и во мнениях; или, что предметы, о которых писали Аксаков и Хомяков, были большею частью таковы, что в них меньше выражалось то, что могло меня отталкивать от них, а у Кошелева по роду статей именно разрастались те черты, которые мне вовсе не сочувственны. Оказалось последнее; и я через несколько месяцев яснее понял, что и на почве государственной, чисто политической и даже (вот что неожиданнее!) на почве церковной я со слишком либеральными московскими славянофилами никогда не сойдусь. Ибо я убедился и узрел очами своими, что если снять с них пестрый бархат и парчу бытовых идеалов, то окажется под этим приросшее к телу их обыкновенное серое, буржуазное либеральничание, ничем существенным от западного эгалитарного свободопоклонства не разнящееся.
Но пока вначале я это только чуял на мгновенье, не сознавая наглядно; взял у Погодина рукопись мою «Византизм и славянство» и отослал Аксакову.
В первый же четверг я пошел к Аксакову нарочно пораньше немного, чтобы застать его еще одного. Я хотел иметь время выслушать его мнение о моем сочинении.
Он прочел около половины, и оно видимо произвело на него сначала недурное впечатление.
Вот что он мне сказал:
– Ваша статья очень оригинальна и остроумна. Если бы у меня был журнал, я бы, непременно, ее напечатал с некоторыми замечаниями. Ваши взгляды на славянство большею частью верны. «Славянство есть и оно очень сильно; славизма нет». Это правда Хотя и есть что возразить. Напр, вы представляете Россию в виде какой-то индиферентной почвы, на которую действует (или над которой работает) византизм… Но, однако, есть и в России нечто свое и на церковной почве. Так, напр., у нас теперь заботятся о том, чтобы священников избирали себе сами приходы. Приход — единица, которую Византия почти не знала. Византия заботилась о крупных массах, о племенах и т. д.
Он говорил еще что-то в этом роде. Можно было бы многое возразить на это; хотя бы то, что именно племенного-то начала в Византии и незаметно, все племена без различия сливались в одной идее, в православии. И еще, что в Турции давным-давно и селяне, и горожане имеют большое влияние не только на избрание священников, но и епископов. Трудно и теперь епископу греческому удержаться долго на месте, если жители его не пожелают, и им всегда есть возможность писать в Патриархию жалобы. Патриархия редко не уступает. При мне подобным образом пало несколько епископов (Янинский Парфений, Адрианопольский Кирилл, один Салонский и другие.) В цветущие времена Византии, насколько мне известно, жители выбирали сами себе священников, а духовная власть утверждала их. Есть даже особая книжка Иоанна Златоуста о священстве, где он объясняет, почему он отказался от сана иерея и скрылся, когда его хотели прихожане избрать. Из нее и из многого другого видно, что избрание народом иереев дело вовсе не новое, не русское, и если уж искать у нас оригинальности (увы! с фонарем или микроскопом!), то скорее все-таки в прошедшем нашем, как оно ни было бесцветно сравнительно с прошедшим миров истинно культурных, а никак не в настоящем и не в близком будущем…