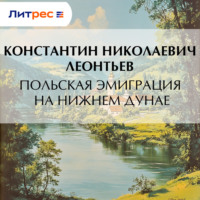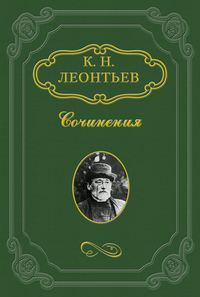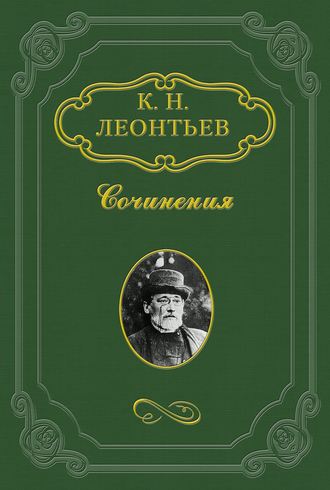 полная версия
полная версияКультурный идеал и племенная политика
1) «Идеал равноправный» (политический и гражданский) должен быть оставлен. Он противен государственной статике. Несовместимость его с долговечностью государств подтверждается и психологическими изысканиями (такими-то и такими-то).
2) Бессословный монархизм неустойчив. Республики аристократические были даже много прочнее.
3) Итак: если окажется невозможным посредством осторожных, медленных, но настойчивых реформ восстановить в России глубокую и весьма сложную неравноправность, то государство русское не может рассчитывать не только на создание в недрах своих нового культурного типа (как надеялся Данилевский), но не должно надеяться даже и на долгое (вековое – 400, 500 и т. д. лет!) отдельное от Запада политическое существование. Весь Запад, предварительным путем – либеральной группировки по племенам, идет быстро ко всеобщей федеративной безосновной (атеистической) и эгалитарной республике.
Чтобы выдержать (через каких-нибудь полвека, положим) напор соединенных сил этой всеевропейской республики и не подчиниться ее началам и власти, Россия должна непременно соблюсти у себя следующие четыре условия: 1) усилить (по возможности) религиозность высшего своего общества; 2) утвердить глубокую сословную разницу (при сохранении доступности высшего слоя); 3) уменьшить донельзя подвижность экономического строя; укрепить законами недвижность двух основных своих сословий – высшего правящего и низшего рабочего; 4) улучшить вещественное экономическое положение рабочего класса настолько, чтобы при неизбежном (к несчастью) дальнейшем практическом общении с Западом русский простолюдин видел бы ясно, что его государственные, сословные и общинные «цепи» гораздо удобнее для материальной жизни, чем свобода западного пролетариата.
Для этой цели нужно заранее приложить все усилия, чтобы уменьшить и тот пауперизм, от которого и земля сама главным (?) образом (?) одна предохранить может.
Такого рода государственное сознание будет истинно национальным; такого рода неевропейская теория будет взята действительно из жизни – и снова в жизнь обращена, как и подобает всякой хорошей и здравой теории. Так делают и врачи-физиологи. Так случается и <на> наших глазах в медицине – с теорией микробов. Наблюдали жизнь – открыли микробов; встречаются опять с болезнью в жизни – берут меры противу действия микробов, хотя бы даже и посредством искусственной их прививки.
Правда, не нашелся еще в России до сих пор ни один ученый – специалист по истории или по социальным наукам, который ударил бы нас всех по головам солидным трактатом в предполагаемом мною духе.
Мы все еще идем немного ощупью и продолжаем мыслить слабо, а делать не глупо; но и это придет… если России суждено… и т. д. и т д.
(Это «если» необходимо прибавлять везде, чтобы не ошибиться…)
Общей, глубокой теории неравноправности у нас еще нет. Смелых гипотез у нас не любят; или, вернее сказать, их очень любят и у нас, но только в книгах западных, а не у своих авторов; своим – не доверяют – на почве теории и гипотез. Но жить государственно и у нас еще хотят, и когда нужды политической жизни хватают за горло наших влиятельных и власть имеющих людей, то и у них пробуждается некоторое бледное подобие мысли, и они инстинктом опыта еще более, чем этой бледной мыслью, нередко наталкиваются на должные меры.
И в этих мерах даже и без ясного национального сознания уже видна в наше время бессознательная наклонность к самобытности.
А самобытность по возможности во всем и есть та самая искомая культурная национальность, о которой мечтал Данилевский, которой и я служу по мере сил моих и которую страстно желаю предохранить от всяких либеральных воздействий, в том числе и от воздействий объединенных в общей безосновности – и безыдейности – племен славянства… («Эх – вы!..» Достоевский).
VI
Я еще не кончил. Обращаясь к Вам, я хочу, конечно, чтобы и другие меня поняли лучше.
Ибо чего же я должен ожидать от многих других, если даже и Вы меня поняли не так, как я хотел; если мою защиту национальности (культурной, обособляющей) Вы сочли за нападение, за измену моему собственному прежнему идеалу.
Не знаю, читали Вы или нет в «Гражданине» (<18>88 и <18>89-х годов) мою вторую статью о том же: «Плоды национальных движений на православном Востоке»? Отдельно она не была издана.
Быть может, Вы на нее вознегодовали бы еще больше, чем на первую.
В статье «Национальная политика…» я только под конец сказал два слова о России и славянском вопросе. Заметьте, впрочем, я сказал, что с этой стороны только на Россию есть еще надежда; в каком же это смысле? А в том, что только в России XX века политика племенных освобождений и объединений может, при благоприятных условиях, принять тот действительно обособляющий, культурный характер, который не удалось принять этим эмансипациям и слияниям на Западе.
Но прежде чем указать на возможные пути этого положительного, творческого выхода в будущем для России, для православного Востока, а пожалуй, позднее и для всеславянства, мне необходимо было выследить внимательно, как действовал до сих пор политический национализм на культурно-национальную физиогномию этого православного Востока в XIX веке. И при выслеживании этом, с одной стороны, было ясно, что он и на Востоке действовал до сих пор точно так же, как и на Западе, т. е. влиял и тут разрушительно на эту физиогномию.
Для меня самого эта сторона дела, конечно, была не нова; я стал понимать это уже в самом начале <18>70-х годов, когда еще был консулом в греческих и славянских землях; но в такой параллели с историей Запада в нашем истекающем веке я еще ни разу этого не излагал. И, излагая нечто давно мне известное и понятное в форме новой и более связной, я и сам себя поучал, еще более против прежнего утверждаясь в основательности моих опасений.
Меня не мог уже удивить тот неотразимый факт, что в XIX веке национализм политический вреден национализму культурному. Это по-прежнему меня огорчало, но не могло, говорю, удивить меня. Но меня удивило и даже ужаснуло нечто иное и даже большее.
Следя за национальными движениями на Востоке, я неожиданно для самого себя понял, что не одни национальные движения народов и не одна племенная политика правительств служили космополитизму жизни (всеравняющей революции) в XIX <веке> волей и неволей, преднамеренно и нечаянно. Я понял, что этому космополитизму или этой революции в XIX веке на Востоке так же, как и на Западе, служило все. Все консервативные начала невольно и косвенно служили торжеству этой революции.
Оказалось, например, что главным инициатором тех племенных эмансипаций, которые вредили национальным физиогномиям, был не Наполеон III, а охранитель из охранителей, наш незабвенный и великий государь Николай I. Ибо все согласны, что греческое восстание <18>21 года надо считать национальным; Николай Павлович тверже и бескорыстнее всех поддержал его. И этим неожиданно поспособствовал ослаблению национальных особенностей в свободной Элладе.
(Я здесь не могу повторить все то, что в статье «Плоды и т. д.»{29} развито подробно.)
Оказалось также, что восточная война <18>53 – <18>56 годов повлекла за собою и некоторого рода демократизацию и России, и Турции. Война эта начата была нами уже вовсе не из-за независимости христиан от турок, а из-за преобладания России над Турцией, т. е. из-за принципа государственного и по побуждению более нормальному в политике, чем гуманитарная ложь племенной эмансипации[8]. И несмотря на нормальность, консервативность и государственность этой войны, последствия неожиданно вышли и для России, и для Турции антигосударственными; только в различной мере: для России в меньшей, в поправимой, быть может; для Турции в непоправимой.
Вот как я там говорил.
В этом смысле я уверен, что и Вы признаете меня гораздо более достойным последователем Данилевского, чем г-на Страхова, который продолжить его учения не может и который при всем добром желании своем очень слабо защищает его от нападок Соловьева именно потому, что у него по этой части нет и тени ничего своего. Он только благоговеющий ученик и панегирист «России и Европы» но не продолжатель. За это ему спасибо… и только. (Suum cuique{30}.)
Примечания
1
Это не шуточное словечко – «идос» – сорвалось у меня почти нечаянно. Ужаснувшись, однако, тотчас же моей дерзости, я стал искать у себя надежного источника для проверки и нашел его в книге еп<ископа> Никанора «Позитивная философия и сверхчувственное бытие». (На страницах 119–126 2-го тома.) Оказалось, что я имею право в данном случае употребить это слово. Значит, я могу быть виноват разве в том, что еп<ископа> Никанора не так понял.
2
Такого мнения была, например, весьма дельная, хотя нередко и вовсе невпопад оппозиционная газета «Земский обзор» (1883, 1885 годов).
3
Чтобы сразу яснее понять огромную разницу между этим последним определением и предыдущим, я предложу вообразить следующие две полуфантастические картины из русской жизни. В России религиозное движение все усиливается, и в умах, и в политике, вследствие этого в среде русских граждан является очень много православных немцев, православных татар, православных поляков, искренно православных евреев. Или: религиозное движение слабеет, а племенные стремления усиливаются, под давлением обстоятельств умножается у нас число инородцев, по-русски знающих прекрасно, России преданных, к нашим общеевропейским (будто бы русским) учреждениям привычных, везде такие русские протестанты, русские израильтяне, русские католики, русские мусульмане? Я думаю, разница будет большая?
4
Да и прочих произведений…
5
Мое возражение Аксакову на эту постановку вопроса. Мало ли что там народ и т. д. Не в русском народе центр тяжести – а в Православии самом.
6
См. его брошюру «Грядущее рабство».
7
Зрелость есть приближение к устарелости. Что значит зрелость? Безбоязненно говоря, это значит приближение к старости и смерти.
8
Ложь троякая; ложь, во-первых, потому, что и Наполеон III, освобождая Италию, искал все-таки этим новым религиозным союзником усилить Францию; и мы, воюя за болгар, в <18>70-х годах, имели в виду все-таки усилить и себя на Востоке. Ложь еще потому, что самообман; не усиливаемся. Ложь именно и потому, что ничего истинно национального из этих эмансипации не выходит.
Комментарии
1
Над данной статьей К. Н. Леонтьев работал с марта 1890 г., после того как он ознакомился со статьей Петра Евгеньевича Астафьева (см.: Астафьев П. Е. Национальное самосознание и общечеловеческие задачи // Русское обозрение. 1890. № 3), в которой имеется один абзац, критически направленный против брошюры К. Н. Леонтьева «Национальная политика как орудие всемирной революции». Потом К. Н. Леонтьев ознакомился с астафьевской статьей в № 177 в «Московских ведомостях» (29 июня 1890 г.), которая, в свою очередь, стала ответом на статью К. Н. Леонтьева в «Гражданине». (1890. № 144, 147), и осознал невозможность полемизировать непосредственно с П. Е. Астафьевым. В статье «Кто правее?» он обратился к Вл. С. Соловьеву как к третейскому судье этого спора.
2
Начало отсутствует. Рукопись статьи начинается с с. 5.
3
Sapiens (лат.) – ученый.
4
Pendant (франц.) – дополнение.
5
Так называется глава 6 статьи Вл. С. Соловьева «Великий спор и христианская политика» (1882–1883). См.: Соловьев Вл. С. Великий спор и христианская политика // Соловьев Вл. С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. Философская публицистика. М., 1989. С. 59–167.
6
Это выражение «национальная политика» использовано К. Н. Леонтьевым в названии его статьи «Национальная политика как орудие всемирной революции».
7
Пазухин А. Д. Современное состояние России и сословный вопрос. М., 1886.
8
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Гл. X.
9
Греки, болгары, сербы и румыны.
10
Цитируется письмо И. С Аксакова к В. Ф. Пуцыковичу от 25 июня 1876 г., опубликованное в «Московском сборнике» (М., 1887. С. 41).
11
От немцев и католических священников.
12
В феврале и марте 1885 г. П. Е. Астафьев прочел по две публичные лекции, в которых закон («гипотеза») органического развития К. Н. Леонтьева была упомянута и высоко оценена. В брошюре «Симптомы и причины современного настроения (наше техническое богатство и наша духовная нищета). Две публичные лекции, читанные в Москве 13 и 19 февраля 1885 г.» (М., 1885) П. Е. Астафьев утверждал, что «…в смешении всех форм человеческого общежития и уравнении их до полной безразличности, – в смешении и уравнении характеров, стилей и вкусов, «племен, наречий, состояний», – один из наших талантливых писателей, К. Н. Леонтьев, указывал (в статье «Византизм и славянство») главный характеристичный симптом начала разложения старых обществ, вымирания культур, народов и государств. Он сам в обрисованных им формах смешения видит лишь симптом, но не причину этого вымирания, признавая, что причины должна указать психология, а не история…» (С. 82). В другой брошюре «Смысл истории и идеалы прогресса. Две публичные лекции, читанные в Москве 15 и 17 марта 1885 года» (М., 1886) в подстрочной сноске П. Е. Астафьев отмечал: «Наиболее ярко и картинно, хотя и без всякого философского обоснования, выразил из известных нам русских писателей эту противоположность идей развития и прогресса К. Н. Леонтьев в последних главах своей замечательной, несмотря на все ее парадоксы, недоумения, недомолвки, самопротиворечия и ненужные резкости, книги «Ви-зантизм и славянство». Автор этой книги, сходясь в определении самого процесса развития (как усложнения, дифференциации и т. п.) со всеми теоретиками развития (как, например, Г. Спенсер), становится совершенно оригинальным, показывая противоположность этому развитию прогресса (эгалитарно-либерального, утилитарного, космополитического etc.), который, однако, самим же процессом развития в известный момент человеческой жизни вызывается, полагая конец дальнейшему развитию и – начало разложению, общественной и культурной смерти. Каковы бы ни были недостатки в выражении и развитии этой мысли в книге «Византизм и славянство», сама мысль настолько оригинальна и глубока, что нельзя не пожалеть о том, что эта замечательная книга у нас так мало известна» (С. 22–23).
13
Меа culpa! Mea culpa! (лат.) – Моя вина! Моя вина!
14
Отказываемся потому, что постановления Берлинской международной конференции (март 1890 г.) по вопросу о создании единого рабочего законодательства для западноевропейских стран не были обязательными для ее участников.
15
Восстание в Польше в 1863 г.
16
Pis-aller (франц.) – опора.
17
Проект Н. П. Игнатьева, работавшего над упрочением позиций России на Балканах, обсуждался в сербских и болгарских политических кругах.
18
Восстания христиан в Боснии, Герцеговине, Сербии и Черногории, приведшие к русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
19
В царствование Александра III.
20
Князь Милан после войны 1877–1878 гг. занял проавстрийские позиции. В 1881 г. он тайно заключил с Веной конвенцию, по которой Сербия фактически лишилась государственного суверенитета. Ради поддержки пошатнувшегося в стране авторитета Милан начал войну против Болгарии (1885–1886), а после ее поражения в стране усилилось влияние радикальной партии, ориентированной на Россию. Зимой 1889 г. Милан вынужден был отречься от трона в пользу своего несовершеннолетнего сына Александра.
21
Болгарский князь Александр Баттенберг в 1879 г. был выдвинут русской дипломатией на болгарский престол; в 1881 г. совершил государственный переворот, отменив действие Тырновской конституции 1879 г.; пытался превратить Болгарию в оплот австро-германского влияния на Балканах. Летом 1886 г. был арестован болгарскими офицерами-русофилами, которые заставили его отречься от престола и покинуть Болгарию.
22
Filioque (лат.) – и (от) Сына.
23
«Представления «о царстве Божием на земле», земной «организации правды Божией», считал П. Е. Астафьев, не русские представления, а западные, романо-германские, родившиеся из причудливого смешения христианского идеала с идеалом единой всемирной империи». Для русского же религиозного сознания «действительная задача христианской религии – отнюдь не задача какой бы то ни было организации земной жизни, хотя бы и наглядно символизирующей «богочеловечество», но задача – спасения души, и спасения не на земле и не для земли». См.: Русское обозрение. 1890. № 3. С. 291.
24
Вл. С. Соловьев в статье «Любовь к народу и русский народный идеал (открытое письмо к И. С. Аксакову)» писал: «В истинно народном нет ничего нарочного, иначе вместо народности окажется только народничанье. Между тем и другим такая же точно разница, как между оригинальностью и оригинальничаньем: первое есть нечто невольное и хорошее, второе есть нечто намеренное и дурное». См.: Соловьев Вл. С. Любовь к народу и русский народный идеал // Соловьев Вл. С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. Философская публицистика. М., 1989. С. 300–301.
25
«Homo sum» и т. д. (лат.) – «Я человек…». Полностью это латинское выражение звучит так: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо».
26
«А мы можем, если захотим!.. Мы уже и доказали это недавно и нашей последней войной и, что еще гораздо важнее, мы доказали это в области политической мысли Манифестом 29 апреля 1881 г. Перед лицом всей конституционной Европы и всей республиканской Америки мы объявили, что не намерены больше жить чужим умом и приложим все старания, чтоб у нас самодержавие было крепко и грозно и чтоб о «конституции» и помину бы больше не было». Леонтьев К. Н. Письма о восточных делах // Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891). М., 1996. С. 355.
27
Речь идет о манифесте «О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России», с публикации которого фактически началась политика конрреформ царствования императора Александра III.
28
Та же мысль, что и у Морни встречается 25 лет спустя и у Николая Петровича Аксакова: «У нас не было настоящего дворянства. Что такое русское дворянство? Оно больше ничего, как наследственное чиновничество». См.: Русское дело. 1889. № 6.
29
См. в настоящем издании статью «Плоды национальных движений на православном Востоке», особенно гл. III–V.
30
Suum cuique (лат.) – каждому свое.